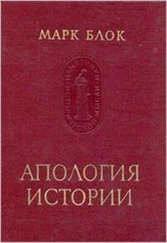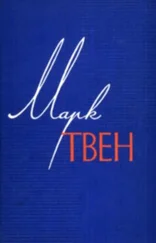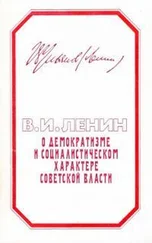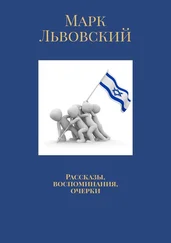Впрочем, западные императоры, начиная с XIV века, стали, кажется, принимать эту удивительную выдумку вполне всерьез. Их приравняли к диаконам или иподиаконам; они пожелали по-настоящему исполнять обязанности диаконов или иподиаконов, по крайней мере, на одном из главных церковных праздников. Карл IV, с короной на голове, с мечом в руке, читал в церкви, на Рождество, седьмое песнопение заутрени, особенно уместное в императорских устах, потому что начинается оно с евангельских слов, входящих в Рождественскую мессу: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление...» (Лук., 2, 1). 25 декабря 1414 г. Сигизмунд, сын Карла IV, выступил в той же роли перед участниками Констанцского собора. Таким образом, эти государи использовали к своей вящей славе теорию, созданную некогда в совершенно иных целях, ибо их торжественное появление во всем императорском облачении перед аналоем, в самом разгаре литургии, лучше любого другого жеста убеждало толпу в их священническом характере. Привилегия эта настолько сильно возвышала императоров в глазах подданных, что нередко вызывала неудовольствия в соседних странах. Когда в 1378 г. Карл IV собрался во Францию, в гости к своему племяннику Карлу V, ему пришлось немного задержать своей отъезд, чтобы встретить Рождество на земле Империи; французское правительство известило его, что на территории французского королевства ему не будет дозволено читать заутреню; невозможно было допустить, чтобы во владениях короля Франции германский император публично совершал богослужение, какого не имел права совершать король Франции 394.
В самом деле, французские короли никогда не были ни диаконами, ни иподиаконами. Правда, в ordines (коронационном чине) Реймсской коронации, начиная с XIII века, имеются следующие слова по поводу платья, надеваемого королями после помазания: оно должно быть «сшито по образцу стихаря, каковой иподиаконы надевают к мессе». Однако параллелизм этот последовательно не выдерживается. В тех же самых документах верхняя одежда короля уподобляется ризе священника 395. А обрядник Карла V вводит в королевский наряд новый элемент, подсказывающий иные аналогии: король, говорится в этом обряднике, может, если хочет, надеть после помазания мягкие перчатки, как делают епископы после посвящения в сан. Итак, хотя полного уподобления королевского сана священническому и не происходило, все чаще и чаще облачение короля в тот день, когда совершались его помазание и венчание короной, уподоблялось облачению священников или епископов. Не поэтому ли в день коронации по-прежнему читали старые молитвы, в каждой строке которых сквозило желание установить своего рода подобие между двумя помазаниями: тем, что совершается над королем, и тем, что совершается над священником? 396
В Англии обряд коронации как в том, что касается королевских одежд, так и в том, что касается литургических текстов, не напоминал так четко, как во Франции, возведение в ту или иную степень духовного служения. Если, однако, мы хотим узнать, какое впечатление производило на публику роскошное великолепие этой монархической церемонии, нам довольно будет прочесть отчет о коронации Генриха VI, автор которого – современник этого события – не моргнув глазом, говорит о «епископском одеянии», в которое облачается король 397.
Коронация была не единственной церемонией, обнажавшей квазисвященнический характер королевской власти. Когда в конце XIII века твердо установился обычай причащать под обоими видами только священников, явственно подчеркивая тем самым отличие клириков от мирян, новое правило не распространилось на всех государей. Император при коронации по-прежнему причащался и хлебом, и вином. Во Франции Филипп де Валуа в 1344 г. добился от папы Климента VI сходной прерогативы, причем, в отличие от императора, дозволение распространялось не только на день коронации, но и на любой день года; в то же самое время и на тех же самых условиях эта же привилегия была дарована королеве, наследному принцу герцогу Нормандскому – будущему Иоанну II – и герцогине, его жене. Привилегии были даны только этим особам, однако, то ли оттого, что затем их возобновили, то ли оттого, что, по некоему негласному уговору, обычай приобрел силу закона, французские короли с тех пор в течение нескольких столетий продолжали пользоваться этим почетным правом. Лишь религиозные смуты, которые начали потрясать христианский мир в конце XV столетия, а также разгоревшиеся тогда же споры о евхаристии привели к тому, что французским государям пришлось – по крайней мере, частично или на время, – отказаться от причащения под обоими видами. Фридрих III, коронованный императором 19 марта 1452 г., причащался только под видом хлеба. Следуя древнему обычаю, коронованные особы рисковали прослыть сторонниками гуситов. Впрочем, традиция прервалась не навсегда; она возобновилась самое позднее в XVII веке, причем к этому времени привилегия уже не ограничивалась коронацией и распространилась на другие торжества; даже в наши дни австрийский император, наследник давнишних священных монархий, ежегодно причащался под обоими видами в Великий Четверг. Во Франции, со времен Генриха IV, короли получали доступ к чаше для причащения лишь в день коронации. Не подобало, чтобы наваррец, сделавшись католиком, продолжал причащаться так же, как и в бытность свою еретиком; это могло дать его несведущим подданным повод усомниться в искренности его обращения. Как бы там ни было, до конца Старого порядка церемония коронации в этом отношении оставалась неизменной 398.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Марк Блок Короли-чудотворцы [очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространённых преимущественно во Франции и в Англии] обложка книги](/books/420814/mark-blok-koroli-cover.webp)