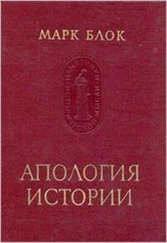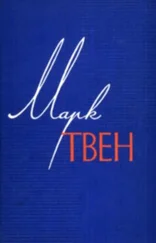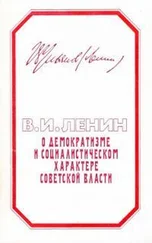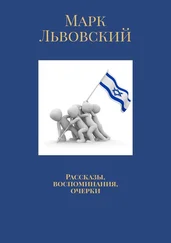Настало время Филиппа Красивого. Тут, вступив в великое сражение с курией, апологеты французской монархии впервые, как я уже упоминал выше, стали использовать в качестве аргумента королевское чудо. Мы уже знаем свидетельства Ногаре и Плезиана 262. Ту же мысль развивает довольно пространно маленький трактат под названием «Quaestio in utramque partem» (Тяжба о взаимных обязательствах. – лат.), который приобрел в свое время такую известность, что почти сразу после написания копия его была внесена в одну из книг королевской канцелярии; в следующем веке Карл V преисполняется к нему такого почтения, что велит своему придворному переводчику Раулю де Прелю перевести его на французский язык. Вместо того чтобы переводить самому, я процитирую этот перевод. Анонимный автор перечисляет доказательства «законного звания» короля Франции на свой престол: «Во-вторых, доказывается то же самое очевидными чудесами, каковые всему миру явственно знакомы и знакомо явственны. И господин наш король, подтверждая законное свое звание, может произнесть слова евангельские, каковыми Господь Иисус Христос отвечал на козни иудеев: "Когда не верите мне, верьте делам моим". Ибо как по праву наследства сын сменяет отца на престоле королевском, так же переходит по праву наследства от одного короля к другому умение творить те же чудеса, каковые Господь совершает через них, как и через служителей своих» 263.
Следом за публицистами за дело берутся историки: светские, как Гийом Гиар в царствование Филиппа Красивого 264, и церковные, как, в царствование Филиппа V, монах Ив из Сен-Дени, бывший в своем роде официальным историографом 265; и те, и другие отныне не боятся упоминать в своих сочинениях о «чуде» с исцелением золотушных. Более того: сами мастера церковного красноречия начинают в это время прославлять чудотворную мощь Капетингов. Нормандский доминиканец брат Гийом Соквильский сочинил любопытную проповедь на тему «Осанна сыну Давидову» 266, произнесенную около 1300 г. Оратор не скрывает обуревающего его чрезвычайно сильного чувства национальной гордости; он настойчиво провозглашает независимость Франции от Империи, каковую Империю даже осмеивает при помощи тяжеловесной игры слов (Empire = en pire, то есть к худшему). В то время великий спор французских авторов с папством подкреплялся другой полемикой – выступлениями против притязаний императоров на мировое господство 267. Французский король, говорит брат Гийом, достоин имени сына Давидова; почему? Потому что Давид – это «сильная рука» (manu fortis), а королевская рука сильна в исцелении страждущих: «Всякий государь, наследующий французский престол, получает тотчас миропомазание и корону, а с ними особенную благодать и особый дар – умение исцелять страждущих одним прикосновением руки: посему из разных мест и многих земель приходят к королю несчастные, пораженные королевской болезнью». Этими словами проповедь открывается 268. Защитительные речи полемистов до толпы не доходили, но зато какое влияние, должно быть, оказывали на нее подобные речи, произносимые с высоты церковной кафедры!
Примерно в то же самое время жил в Италии писатель, чьему отношению к целительному обряду было суждено оказать в дальнейшем огромное влияние на мнение всех духовных особ. Фра Толомео, монах-доминиканец, уроженец Лукки, умерший в 1327 г. в сане епископа Торчелло, был весьма плодовитым историком и политическим теоретиком. Из его сочинений затруднительно вывести связную доктрину; мыслителем этот компилятор был весьма заурядным. Бесспорно, что к Империи он относился враждебно и сочувствовал верховенству папы; однако, по всей вероятности, его следует рассматривать не столько как приверженца папской власти, сколько как преданного слугу Анжуйского дома, интересы которого совпадали в ту пору во многом – хотя и не во всем – с интересами Святого Престола. Для уроженца Лукки это было совершенно естественно: ведь Лукка проставляла собою самый надежный оплот анжуйской политики во всей Северной Италии; Карл Анжуйский, наместник императора в Тоскане, пользовался в Лукке большим уважением; Толомео дважды называет его своим сеньором и королем. После смерти великого завоевателя-гвельфа наш доминиканец, кажется, перенес свою привязанность на его потомков; в 1315 г., когда принц Карл Тарантский, племянник короля Роберта Неаполитанского, пал в бою под Монтекатини, именно Толомео, в ту пору приор монастыря Санта-Мария-Новелла во Флоренции, отправился к победителям-пизанцам за телом погибшего 269. Между тем Карл Анжуйский, брат Людовика Святого, был Капетингом и в качестве такового, несомненно, верил в королевское чудо, причем верил тем более твердо, что, став королем в Италии, сам, как мы сейчас увидим, начал претендовать на обладание чудотворным даром. Все эти обстоятельства объясняют благосклонность Толомео к обряду возложения рук. На сей счет он высказался в двух своих произведениях. Сначала в полемическом сочинении, известном под названием «Краткое изложение прав Империи» (Determinatio compendiosa de jurisdictione imperil) и сочиненном около 1280 г. специально для защиты интересов неаполитанского короля от короля римлян и от самого папы; в главе XVIII, стремясь доказать, что королевская власть дается от Бога, он приводит среди прочих следующий аргумент: теорию эту подтверждает «пример иных нынешних государей, добрых католиков и благочестивых прихожан; в самом деле, по особому Божьему изволению и большей, нежели у простых смертных, близости к Господу дана им особая власть над болящими: таковы короли Франции, таков господин наш Карл» – вот он, анжуйский след, – «таковы, говорят, и короли Англии» 270.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Марк Блок Короли-чудотворцы [очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространённых преимущественно во Франции и в Англии] обложка книги](/books/420814/mark-blok-koroli-cover.webp)