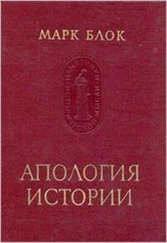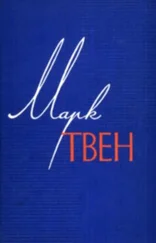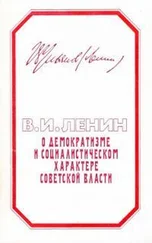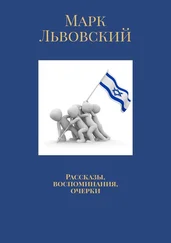Однако Петр из Блуа пошел дальше; он рассуждал примерно так: мой повелитель – особа священная; значит, мой повелитель может исцелять больных. Вывод на первый взгляд странный; однако мы скоро убедимся, что с точки зрения людей XII века ровно ничего странного в таком подходе не было.
§ 2. Священное как целительное
Средневековые люди, во всяком случае, подавляющее их большинство, имели обо всем, что связано с религией, представления очень материальные и, можно сказать, чрезвычайно приземленные. Да и как могло быть иначе? Чудесный мир, доступ в который открывали христианские обряды, не был в их глазах отделен от мира, в котором они жили, бездонной пропастью; два мира соприкасались и переплетались; если некий жест оказывал воздействие на тот свет, как можно было не поверить, что он воздействует и на этот? Понятно, что мысль о подобных вторжениях никого не шокировала; ведь никто не имел точных сведений о законах природы. Итак, люди верили, что священные действия, предметы и особы не только обладают властью над загробным миром, но и наделены силой, способной влиять на ход событий в мире земном; силу эту люди представляли себе так конкретно, что даже рассуждали о ее тяжести. Покрывало на алтаре, посвященном великому святому – Петру или Мартину, – становилось, по словам Григория Турского, тяжелее, чем прежде, если святой хотел показать свою мощь 167.
В священниках, причастных к сфере сакрального, многие люди видели своего рода волшебников и потому то почитали их, то ненавидели. Жители некоторых краев, встретив священника, осеняли себя крестным знамением; встреча эта слыла дурным предзнаменованием 168. В Датском королевстве в XI веке священников, как и колдуний, считали ответственными за ненастье и эпидемии и порой преследовали как виновников этих бедствий с такой жестокостью, что Григорию VII пришлось выступить против подобных гонений 169. Впрочем, к чему забираться так далеко на Север? Во Франции, по всей вероятности, в XIII в., произошел следующий поучительный случай, о котором проповедник Жак из Витри узнал, по его собственным словам, «из верного источника»: в одной деревне случилась эпидемия; чтобы положить ей конец, крестьяне не придумали ничего лучшего, чем принести в жертву своего кюре; однажды, когда он в полном облачении хоронил мертвеца, они столкнули его в свежевырытую могилу, к погребаемому трупу 170. Разве не наблюдаем мы подобные безумства – в более невинных формах – и в наши дни?
Таким образом, порой общественное мнение наделяло священных особ свойствами грозными и пагубными; впрочем, гораздо чаще, разумеется, свойства эти представлялись людям благодетельными. А есть ли благодеяние лучше и драгоценнее, чем возвращение здоровья? Люди охотно верили, что все, имеющее хоть какое-то отношение к вещам священным, обладает целительной силой 171. Облатки, освященное вино, вода в купели, вода, в которую священник, дотронувшись до святых даров, окунул руки, сами пальцы священника считались лекарствами от болезней; даже в наши дни жители некоторых провинций верят, что пыль из церкви или мох, покрывающий ее стены, обладают целительными свойствами 172. Этот образ мыслей приводил подчас непросвещенные умы к странным заблуждениям; Григорий Турский рассказывает о вождях варваров, которые, когда у них болели ноги, мыли их в блюде для облаток 173. Духовенство, разумеется, осуждало подобные бесчинства, однако дозволяло существовать тем обычаям, которые не посягали на величие культа; впрочем, народные верования по большей части ускользали от его контроля. Поскольку обычным орудием освящения был елей, то из всех церковных атрибутов он слыл средством наиболее могущественным. Подсудимые глотали его перед тем, как подвергнуться «божьему суду». Особенно же действенным средством считался елей против болезней тела. Сосуды, в котором он хранился, приходилось охранять от покушений верующих 174. Поистине в те времена слова «священное» и «способное исцелять» были синонимами.
Теперь вспомним, что представляли из себя короли. Почти все люди верили в их, если воспользоваться выражением Петра из Блуа, «святость». Более того. Что народ считал источником этой «святости»? В большой мере, конечно, родовую предопределенность, в которую массы, хранительницы архаических идей, бесспорно не переставали верить; однако, начиная с каролингских времен, в большем согласии с христианским учением, народ стал считать таким источником религиозный обряд, помазание, иначе говоря – тот святой елей, который, с другой стороны, казался стольким страждущим наиболее действенным лекарством от их болестей. Таким образом, получалось, что короли дважды предназначены для того, чтобы играть роль благодетелей-чудотворцев: во-первых, своим священным характером самим по себе, а во-вторых, одним из его источников, наиболее явным и почтенным. Как же могли они в этих обстоятельствах рано или поздно не прослыть целителями?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Марк Блок Короли-чудотворцы [очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространённых преимущественно во Франции и в Англии] обложка книги](/books/420814/mark-blok-koroli-cover.webp)