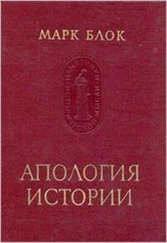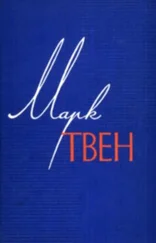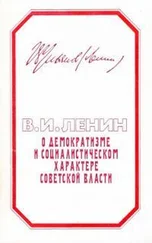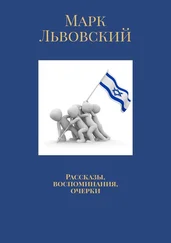§ 2. Почему люди верили в королевское чудо
В конечном счете ни мыслителям эпохи Возрождения, ни их ближайшим преемникам так и не удалось дать королевскому чуду удовлетворительное объяснение. Ошибка их заключалась в том, что они не умели правильно поставить проблему. Они слишком плохо знали историю человеческих обществ, чтобы определить, насколько велика сила коллективных иллюзий; сегодня мы осведомлены об этой удивительной силе куда лучше. Старая история, так мило рассказанная некогда Фонтенелем, повторяется в обществе вновь и вновь. Сущность ее заключается в следующем: у одного мальчика в Силезии вырос во рту золотой зуб; ученые предложили тысячу объяснений этого чуда; наконец кто-то решил заглянуть в чудесную челюсть и обнаружил, что к обычному зубу ловко приделан кусочек золотой фольги. Постараемся же не уподобляться этим горе-докторам: прежде чем пытаться ответить на вопрос, каким образом королям удавалось исцелять больных, зададимся вопросом, в самом ли деле они кого-нибудь исцелили. На этот вопрос мы, присмотревшись к клинической практике чудотворных династий, ответим без труда. «Короли-целители» не были обманщиками; однако точно так же, как у силезского мальчика не было золотого зуба, так же и наши короли сроду никого не вылечили. Итак, истинный вопрос состоит в том, чтобы понять, почему, если короли не возвратили здоровья ни единому человеку, все кругом верили в их чудотворную власть 967. Здесь нам снова придется обратиться к истории их клинической практики.
Прежде всего бросается в глаза, что прикосновение королевской руки оказывалось действенным далеко не всегда. Мы знаем множество случаев, когда больные подвергались возложению рук по нескольку раз. При последних Стюартах один священник дважды являлся за исцелением к Карлу II и трижды к Якову II 968. Браун не считал нужным скрывать: некоторые больные «исцелились только после второго возложения рук, в первый же раз они этой милости не удостоились» 969. В Англии возникло даже суеверие, согласно которому прикосновение королевской руки считалось по-настоящему действенным, лишь если повторялось дважды; возникнуть такое суеверие могло лишь потому, что первое прикосновение часто оставалось тщетным 970. Сходным образом в крае Бос в XIX столетии клиенты воветтского «марку», если не чувствовали облегчения после первого сеанса, возвращались к деревенскому лекарю вновь и вновь 971. Итак, с первого раза успех не был гарантирован ни королям, ни седьмым сыновьям.
Больше того. Конечно, во времена расцвета монархической веры набожные подданные французских и английских королей ни за что бы не согласились с утверждением, что короли эти никогда и никого не вылечили; однако с мыслью, что исцеляются, даже после нескольких возложений рук, далеко не все больные, и французы, и англичане соглашались по большей части вполне охотно. Как справедливо отмечал Дуглас, «никто никогда не утверждал, будто прикосновение королевской руки оказывается благодетельным во всех случаях, когда таковое совершено бывает» 972. Еще в 1593 г. иезуит Дельрио, воспользовавшись признаниями, сделанными на сей счет Тукером, подверг нападкам английское чудо 973: дело в том, что Дельрио стремился доказать необоснованность притязаний королевы-еретички. Подобные обвинения с легким сердцем высказывали лишь люди, объятые религиозной страстью. Обычно, как свидетельствует пример самого Тукера, а вслед за ним и Брауна, авторы, писавшие о возложении рук, проявляли большую покладистость. Вот что отвечал Жозюэ Барбье своим бывшим единоверцам-протестантам, высказывавшим сомнение в действенности королевского обряда: «Объявляете вы, дабы лишний раз набросить тень на чудесную эту способность, что весьма малое число золотушных от сего обряда исцеление получают... Но пусть даже согласимся мы с вами в том, что людей, от обряда приявших исцеление, меньше тех, каковые остаются больны, из сего нимало не следует, что исцеление первых не есть деяние чудесное и восхищения достойное, подобно исцелению того человека, кто первый входил в купальню Вифезды по возмущении воды ангелом Господним, каковой сходил в купальню раз в год на сей предмет. И хотя не исцеляли апостолы всех больных без исключения, те, кого исцеляли они чудесным образом, от всех болезней избавлялись». Следуют другие примеры из Священного Писания: «Нееман Сириянин» был единственным, кто «очистился» при пророке Елисее, хотя, по слову самого Иисуса, в ту пору «много было прокаженных в Израиле»; из всех мертвых Иисус воскресил только Лазаря; лишь одна кровоточивая жена, прикоснувшись к одежде Спасителя, исцелилась, а «многие другие прикасались также к его одежде без всякой пользы!» 974Сходным образом в Англии один высокоученый и верноподданный теолог, Джордж Булл, писал: «Говорят, что некие особы, прибегнув к сему превосходному средству, возвращаются домой, от болезни нимало не излечившись... Хотя Господь и даровал нашему королевскому роду целительную мощь, вверил он ему сию мощь не абсолютно и бразды правления оставил в собственной своей деснице, дабы ослаблять сии поводья либо их натягивать, когда будет на то его воля». В конце концов, и сами апостолы могли пускать в ход полученный от Христа дар облегчать страдания недужных «не всегда, когда им того хотелось, но лишь тогда только, когда угодно было сие их Дарителю» 975. Мы нынче судим о чуде слишком прямолинейно. Нам кажется, что если уж какой-то человек получил свыше сверхъестественный дар, значит, он может пользоваться этим даром постоянно. Напротив, наши набожные предки, для которых чудеса были делом привычным, смотрели на вещи куда более просто; они не требовали от чудотворцев, будь то короли или святые, покойники или люди здравствующие, постоянной готовности к исполнению чудесной миссии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Марк Блок Короли-чудотворцы [очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространённых преимущественно во Франции и в Англии] обложка книги](/books/420814/mark-blok-koroli-cover.webp)