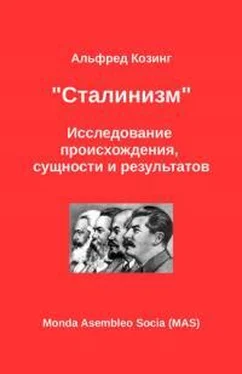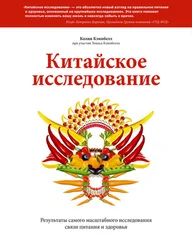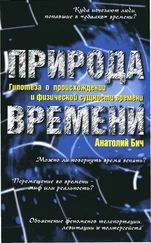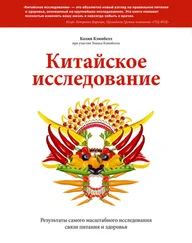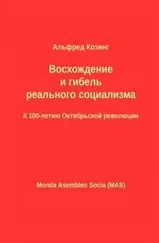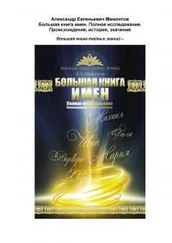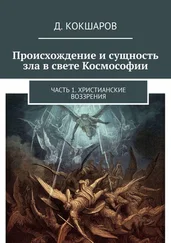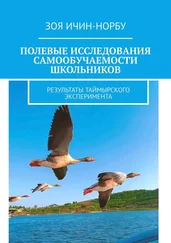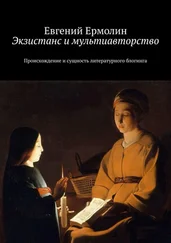В этом духе ещё Роза Люксембург критиковала ленинскую концепцию партии, и она в этом, по-видимому, была более права, чем Ленин. Поскольку даже в истории большевистской фракции и партии во все времена происходили дискуссии и зачастую даже острые споры как по теоретическим проблемам, так и по вопросам политической тактики.
И сам Ленин принимал это и при этом обычно находил способы дискуссии и спора, в итоге приводившие к большему единству мнений и к лояльному сотрудничеству, хотя в полемике он, бывало, переходил привычные границы и без необходимости заострял её.
Но в целом нужно констатировать, что между чрезвычайно суровым теоретическим мнением Ленина и его поведением на практике существовало очевидное противоречие, которое он, впрочем, чаще всего пытался решить путём выяснения точек зрения в открытой и свободной дискуссии, чтобы таким образом вместе найти общую позицию для практической деятельности.
Во времена подпольной борьбы эта идея пролетарской партии была скорее интеллектуальной фикцией, чем практической реальностью, в новых же условиях после завоевания политической власти и начала социалистического строительства она должна была стать полностью непригодной, тем более что теперь уже речь шла не о маленькой организации профессиональных революционеров, а о массовой партии, чья деятельность распространялась на все сферы общества и которая должна была нести ответственность за пролетарское государство.
Является фактом то, что это противоречие во время жизни Ленина не было решено ни теоретически, ни практически. Ленин в своём руководстве партией, с одной стороны, смог достичь линии общей практической деятельности при широком участии членов партии в открытых обсуждениях и спорах, благодаря применению методов внутрипартийной демократии, а с другой стороны, в чрезвычайно опасной ситуации при переходе от военного коммунизма к нэпу он был вынужден навязать решение о запрете фракций в партии, дабы не допустить раскола. Но он сразу подчеркнул, что речь идёт о чрезвычайной мере, которую можно будет отменить, когда чрезвычайные обстоятельства будут преодолены.
Такое исходное положение позволяет понять, почему и как Сталин после смерти Ленина смог использовать эту ситуацию для преобразования партии таким образом, что она, сверх своей нормальной роли и функции, могла в то же время стать решающим инструментом его диктаторской системы власти. Всегда находилось достаточно цитат Ленина, которые он мог интерпретировать в духе своих амбиций. При этом в сталинской концепции партии с самого начала ощущался элитарный, отчасти военизированный, отчасти квазирелигиозный элемент.
В 1921 году в статье «О политической стратегии и тактике русских коммунистов» он набросал план структуры партии, который содержал не только армейские аспекты, но и элитаристско-квазирелигиозные. В нём было написано:
«Компартия как своего рода орден меченосцев внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность. Значение старой гвардии внутри этого могучего ордена. Пополнение старой гвардии новыми закалившимися [...] работниками» [166] И. В. Сталин. О политической стратегии и тактике русских коммунистов: Набросок плана брошюры. Сочинения, т. 5, стр. 71.
.
Интересно, что эта статья 1921 года была опубликована только в 1947 году, при издании сочинений Сталина.
В реализации его идей о партии партийный аппарат, очевидно, играл решающую роль, так как он являлся руководящим ядром . Это постоянно растущий круг людей, полностью занятых решением всех организационных и идеологических проблем партии и руководством её деятельностью. Они составили некую бюрократию, которая была фактически оправдана и необходима для руководства регистрацией членства, для управления партийными финансами, для установления необходимой кадровой политики с помощью введения так называемой «номенклатуры», включающей руководителей всех уровней; она кроме того необходима для организации и контроля за практическим исполнением центральных решений и директив, для ведения пропагандистской работы и т. д. Поэтому существование более или менее бюрократического аппарата также и в партии было неизбежно и само по себе не означало большой опасности при условии уважения принципов внутрипартийной демократии.
Эти принципы требовали выборности ответственных сотрудников аппарата, чтобы они пользовались доверием членов партии, требовали их подотчётности членам партии, требовали возможности критики с стороны членов партии и сменяемости сотрудников аппарата. Аппарат — это служебный инструмент партии, находящийся между руководством и рядовыми членами партии, но он не должен стоять над ними, не должен быть «командным центром» и не имеет права командовать и править партией, а должен помогать организовывать её и выполнять политическую работу. Для того, чтобы он функционировал таким образом, должны строго соблюдаться правила внутрипартийной демократии и должен применяться принцип демократического централизма, так, чтобы обе стороны этого противоречивого единства имели свои права. Это означает, что «линия партии» и основывающиеся на ней решения и директивы должны не просто диктоваться сверху, а вырабатываться в процессе обсуждения, охватывающего всю партию, что затем, после демократического принятия, эта линия должна быть обязательной для практической работы всех членов партии, но в то же время должно оставаться гарантированным право на постоянную и в том числе критическую оценку результатов и на необходимую для этого дискуссию.
Читать дальше