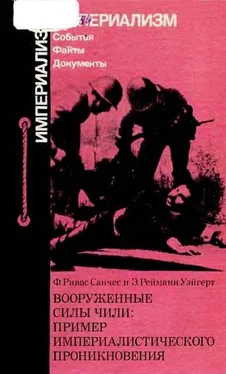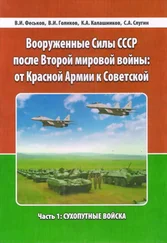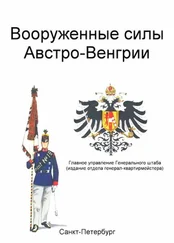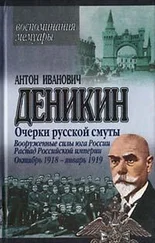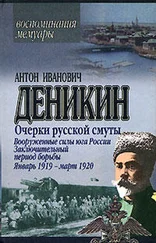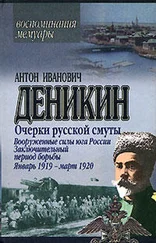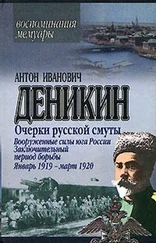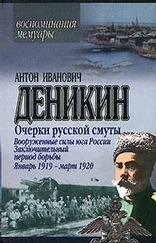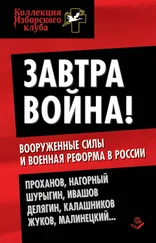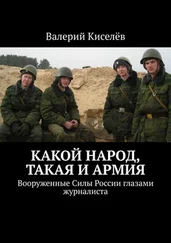Военные же должны защищать интересы господствующего класса в целом, как это и установлено правилами игры, называемыми конституцией. «Конституционность» и «нейтральность» военных предполагает, следовательно, что вооруженные силы должны держаться в стороне от конфронтации различных фракций внутри господствующей в стране буржуазии.
В целом кажущаяся аполитичность, кажущаяся конституционность военных основываются на следующем механизме: 1) отделении и кажущейся беспристрастности государственного аппарата в отношении общества; 2) отделении военных внутри самого государства и нейтральности военного корпуса по отношению к конфликтам между различными фракциями внутри буржуазии; 3) исполнении своей политической роли путем простого присутствия.
Это «невмешательство» имеет свои границы. Когда обострение классовой борьбы угрожает самому существованию капиталистической системы — как это было в Чили — или когда противоречия между различными фракциями господствующего класса обостряются до такой степени, что эти фракции перестают уважать «пакт о ненападении», период «аполитизма» заканчивается и вооруженные силы становятся на защиту господствующего класса или в различной степени участвуют в борьбе конфликтующих сторон. В исторической действительности эти две формы борьбы очень редко проявляются в отдельности. Чаще всего одна из фракций буржуазии сталкивается с обострением классовой борьбы, как это было во время гражданской войны в Испании.
Если мы теперь проанализируем историческую действительность Чили, учитывая все вышеизложенное, то станут ясными как причинность иллюзий в отношении «конституционности» военных, так и мотивы государственного переворота 11 сентября 1973 года.
Не военные, а чилийская буржуазия представляет собой исключение. В отличие от буржуазии многих латиноамериканских стран она сумела относительно давно хорошо сорганизоваться, создав институты, приемлемые в той или иной мере для всех ее фракций. Многочисленные «революции» в других латиноамериканских странах представляют собой симптомы раскола и слабости буржуазии как политической силы.
Этот раскол и слабость являются следствием зависимого развития, в процессе которого каждая новая форма иностранного проникновения создавала новые подчиненные фракции, причем ни одна из них так и не смогла завоевать позиции гегемона по отношению к остальным, хотя и пыталась добиться таких позиций, в результате чего и возникают внутренние распри («революции»).
Чилийская буржуазия, напротив, смогла благодаря большой однородности и вполне определенному гегемонистскому положению стать силой и добиться политического единства, что позволило ей отказаться от политических услуг военных. В этом заключается «особенное» Чили. Исторические причины этой большей сплоченности чилийской буржуазии представляют сами по себе особую тему, которая выходит за рамки данной книги.
Достаточно отметить только, что этот феномен был предопределен факторами различного порядка: отсутствие экономического интереса испанской короны к далекой чилийской колонии, следствием чего явилась относительная малочисленность и экономическая слабость местного индейского населения; сильная европейская иммиграция и одновременно также интенсивность последующего проникновения империализма.
Однако надо совершенно ясно представлять себе, что не всегда чилийские вооруженные силы довольствовались слабым участием в политической жизни страны. Открытое военное вмешательство, подобное тому, что было в сентябре 1973 года, имело место и раньше, в 20-х и 30-х годах нынешнего века, а также в 1891 году. В соответствии с вышеизложенной теоретической постановкой вопроса формы активного участия в политической жизни (равно как и пассивного) не могут быть объяснены только функциями военных вне связи с функциями государства и господствующего класса, которому эти военные служат и чьи интересы защищают.
Другими словами, в этом контексте вмешательство военных можно объяснить как следствие политических кризисов внутри самой буржуазии.
Характерным в политических кризисах в Чили является замена одной формы политического господства, формы, которая уже не соответствует экономическим реальностям, другой политической системой, более отвечающей потребностям новой действительности.
Можно сказать, что эти кризисы объясняются в конечном счете мировыми экономическими изменениями, воздействующими не только на Чили, но и на всю Латинскую Америку.
Читать дальше