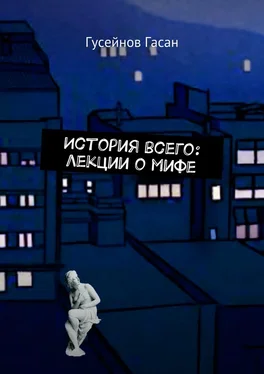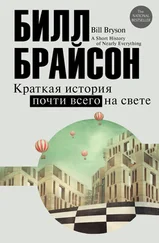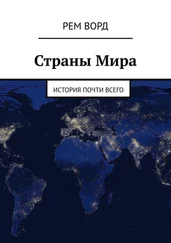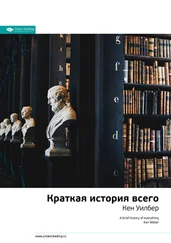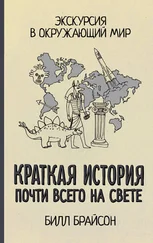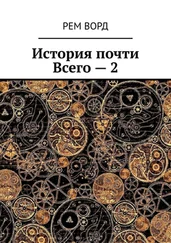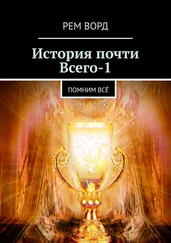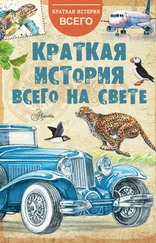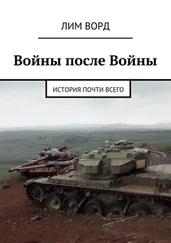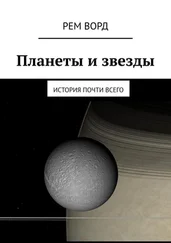Стан.: А отчего умер Калхас?
Г. Ч. Г.: Встретился с более осведомленным прорицателем, Мопсом. И в «Калханте» Чехова не случайно повторяется мотив футляра с золотой булавкой. До трагедии его снова возвысит Пастернак в хрестоматийном стихотворении.
Стан.: «Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, в футляр» 75. Т.е. эта традиция антирецепции античности идет от Чехова в 20-й век?
Г. Ч. Г.: У поколения Чехова античность вся еще на слуху — и школьная, и опереточная, ее художник и обязан взломать.
Стан.: Получается, что в этом пункте современный зритель лишен этого непосредственного понимания Чехова?
Г. Ч. Г.: Да нет, непосредственное понимание остается. Просто оно более плоское, чем могло бы быть. А вот для рельефного понимания Чехова нужны и Сенека, и латинская грамматика, и греко-украинское комикование.
Стан.: А ваши студенты это понимают?
Г. Ч. Г.: Вот как прочитают наш с вами разговор, так сразу и поймут.
Стан.: Калхас вы наш!
Г. Ч. Г.: Но-но! Я на два года моложе.
Аполлон с лирой фреска I век до н. э.
Стан.:: Гасан Чингизович, мы с вами находимся в Риме, а Станиславский и Рим — это такая история невстречи. Судя по письмам, Рим ему совсем не понравился: «Каюсь, и здесь я ждал большего. Форум Траяна — одни поломанные колонны торчат и валяются. Новый памятник Виктору Эмануэлю — ерунда. Старый цирк — кусочек стены… Храм (забыл, чей) — три колонки» 76… Как-то даже трагикомично это звучит.
Г. Ч. Г.: В вашем исполнении прямо чеховский комедиант проглядывает.
Стан.: Ну так же и есть! Почему у Станиславского такое впечатление от Рима осталось?
Г. Ч. Г.: Великий исторический город, переживавший перед приходом фашистов свое третье архитектурное возрождение, Рим и строится, и теряет одну старину, и находит другую старину, которая должна символически подпитывать новые политические силы. Это совсем не то, что ожидал увидеть Станиславский. Давайте не забывать, что он приезжает в одну предреволюционную страну — Италию — прямо из России начавшейся эпохи революций. Пятый год, потом мировая война, потом февраль 1917, потом октябрь…
Стан.: Отсюда его ненависть к хаосу? «Я убедился, что в хаосе не может быть искусства» 77.
Г. Ч. Г.: Ну да, и он продолжает: «Искусство — порядок, стройность».
Стан.: А разве это не античный порядок?
Г. Ч. Г.: То-то и оно, что полоса хаоса, пройденная на его глазах Россией, это не тот хаос, что был «до всего» и что дал жизнь будущему порядку, который начался с отделения неба от земли. Ненавидимый хаос Станиславского — творение рук человеческих — из руин, оставшихся после мнимого «порядка Аполлона». Намного понятнее неприятие Станиславского античности стало мне после поездки со студентами, которая подошла к концу. Приехав в ожидании цельной картины, вы вдруг обнаруживаете, что буквально от всего остались интереснейшие описания и пересказы, а все остальное — громадный мир — это только руины. Второй этап был — включение воображения.
Стан.: А третий этап?
Г. Ч. Г.: Третий этап у моих студентов или у Станиславского?
Стан.: У тех и у другого!
Г. Ч. Г.: На самом деле, он общий: они находят спасение от римских руин в живом средневековом или барочном городе. Станиславский — в классической драме, но и подсматривая, как работают всякие новые гистрионы. Помните, он рассказывает, как попал Италии в настоящий феодальный город, жителей которого содержал как массовку местный феодал. Все это должно было вот-вот рухнуть, и Станиславский сумел выхватить здоровенный кусок старой реальной истории, порядок, который в его системе летоисчисления предшествовал хаосу.
Стан.: Ну да, едва начав новое дело — Художественный театр, он в первую же встречу с Немировичем, в «Славянском базаре», обозначил свои античные интересы. Тут и «Юлий Цезарь» Шекспира, и «Антигона» Софокла… Зачем Станиславскому эти истории?
Г. Ч. Г.: Станиславский никогда не скрывал, что начальный репертуар берет знакомый зрителю. Пусть тебя оценят по классическому, известному зрителю-читателю образцу. И только закрепив успех, можно вообще надеяться на благосклонность публики.
Стан.: А не странно, что и «Цезарь», и «Антигона» у Станиславского проходят по историко-бытовой линии МХТ?
Г. Ч. Г.: Тут нам надо представить себе, как Станиславский понимает «историко-бытовое». Это все то, что мы знаем, минуя личный опыт. Знаете, гимназист «знает» историю древнего мира, он зубрит глаголы и должен уметь пересказать биографию Цезаря. Но он никак не соотносит это со своим прямым опытом. Это, если угодно, быт сознания, удобная корзинка, в которую Красная Шапочка сложила пирожки для бабушки и пошла в лес.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу