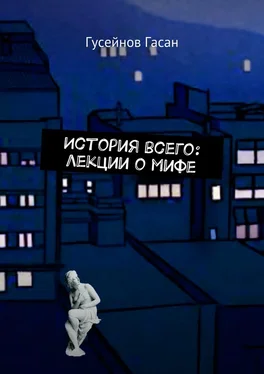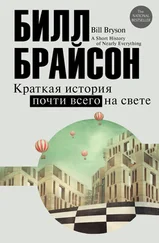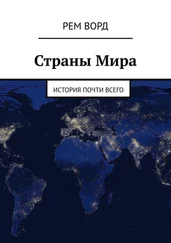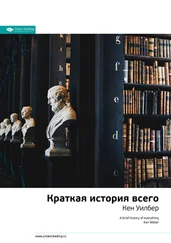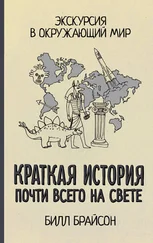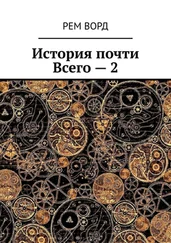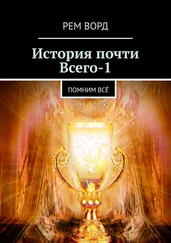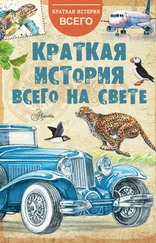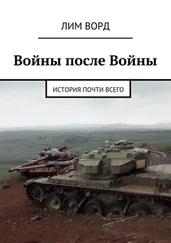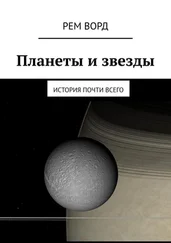Во множестве случаев такая установка безусловно правильна. Собственно, с того момента, как Гомер или трагики вошли в школьный обиход, преимущественно иллюстративный характер мифологических изображений на вазах, зеркалах, в настенной живописи и т. д. не вызывает никаких сомнений. Именно таковы Tabulae Iliacae (Троянские картины) императорской эпохи, а также «гомеровские чаши», самые старые из которых Карл Роберт датировал III в. (в их основе, вероятно, лежат уже не самые киклические поэмы, но их ипотесы).
Принципиальные трудности порождает лишь вопрос о механизме изобразительного повествования, или, точнее, о механизме словесного воспроизведения мифологического изображения: преобладание иллюстративной иконографии греческой мифологии, с одной стороны, и убежденность в безостаточной словесной выразимости мифа — с другой заслоняют от мифографов внесловесный пласт мифологической образности. Что принадлежит этому пласту?
На ранней стадии оформления мифа то была мифологическая вещь = кристаллизатор повествования. Это не только т.н. атрибуты богов и героев — треножник Аполлона, трезубец Посейдона, серп Крона, шлем Плутона, но и золотой агнец Атрея и Фиеста, пурпурный волос Ниса и золотой — Птерелая, медный гвоздь Талоса и лодыжка Ахиллеса, раковина Миноса и Дедала, ржавый нож Филака.
Мифографу, даже ориентированному на древнейший поэтический источник, не остается ничего иного, кроме упоминания такой мифологической вещи в качестве обыкновенного предмета, изделия или органа, упоминания, не обременяющего компилятора и его читателя вопросами о самостоятельной (до- или внесюжетной) судьбе вещи. Различные ступени непонимания мифографами структурирующей функции мифологической вещи, воспринимаемой как устойчивый иконографический признак сюжета, являются важным показателем для определения момента, когда произошел окончательный разрыв словесной и изобразительной повествовательных систем. Яркие примеры дает «Мифологическая библиотека» Аполлодора.
В I.9.3 речь заходит о преступлении Сизифа. Изложение строится следующим образом: сначала сообщается традиционная иконография Сизифа («в наказание он катит в гору головой и руками огромный камень»), а потом объясняется предыстория наказания (Сизиф выдал Асопу, что его дочь Эгину похитил Зевс). Данная последовательность свидетельствует не только об опоре на изобразительный источник, и даже не только на то, что источник этот сравнительно поздний (на самых ранних изображениях Сизифа его пресловутый камень невелик и напоминает диск, еще вполне пригодный для того, чтоб быть связанным с дневным или ночным светилом). Важно, что все остальные элементы «мифологии Сизифа» осознаны мифографом как вторичные по отношению к главному мотиву фабулы — «сизифову труду».
Такова самая примитивная ступень, на которой мифологическая вещь еще не требует для себя объяснений, хотя ничто, кажется, не мешало Аполлодору связать наказание Сизифа с наказанием его тестя Атланта, поддерживающего небесный свод, и задуматься о стародавних владыках каменного неба и каменного солнца. Но не тут-то было: иконографическая традиция «вырастила» диск в неподъемную скалу из банальной каменоломни.
Гораздо резче контраст между иконографическими обязательствами мифографа и трудностями в словесном перевоплощении простейшего изобразительного мотива обнаруживается, например, в изложении мифа о Катрее, сыне Миноса, и именно там, где Катрей становится убийцей сестры.
В сестру Катрея Апемосину влюбился Гермес, не сумевший догнать ее, ибо она превосходила его быстротой ног. Тогда Гермес расстелил на дороге свежесодранные шкуры животных, на которых Апемосина поскользнулась и была настигнута Гермесом. Об этом она рассказала брату, но тот не поверил в правдивость ее рассказа и ударом ноги убил Апемосину. И здесь Аполлодор не вдается в разъяснения, так что весь мотив содранных шкур и быстрых ног остается загадкой и для данного контекста, и для всей «Мифологической библиотеки».
Вне зависимости от того, какими источниками — изобразительным или литературным — пользовался автор «Библиотеки», очевидно, что повествование идет по пути фабульного растолкования реалий. То, что мифографу может казаться деталью рассказа, при ближайшем рассмотрении оказывается его смысловым стержнем. Но этот смысл остается невостребованным, если считать иконографический комплекс иллюстрацией, а подлинный источник видеть в словесном пересказе фабулы — «событий», «действий», «поступков» мифологических «персонажей».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу