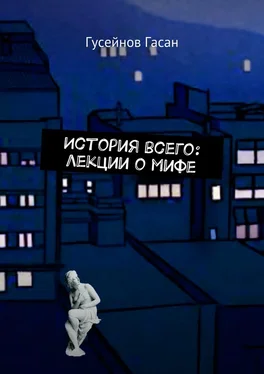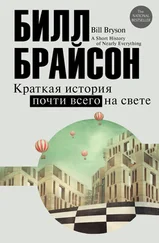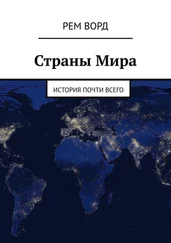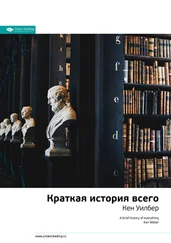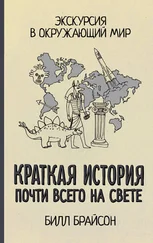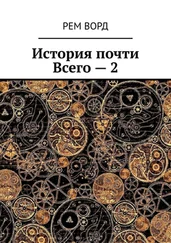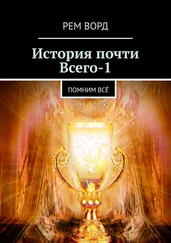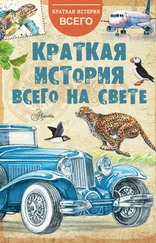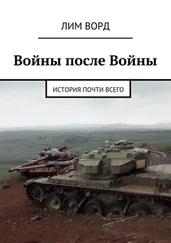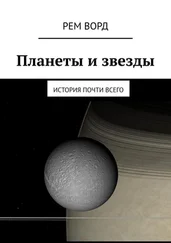Течение времени вызывает постоянные страхи, постоянные ужасы и, вместе с тем, мечту о единственном миге пересечения с вечностью.
В греческой мифологии есть один удивительный эпизод, может быть, страшный эпизод, в котором соединились эти два представления о времени текущем, убегающем, безвозвратно уничтожающем, и о времени как мгновении, как миге, соединяющем человека с вечностью, о которой он ничего не знает и не может узнать.
Это сцена в Илиаде, когда Ахилл убивает амазонку Пентесилею. Мы эту сцену, этот эпизод знаем из многочисленных изображений на вазах. Как правило, это замечательное изображение в вазописном кругу. По мотивам этой сцены есть знаменитая картина Климта: со склоненной головой мужчина и рядом с ним женщина, которая смотрит на него. Это сцена описывает, как амазонка Пентесилея, которая пришла на помощь троянцам, сражается с Ахиллом. Ахилл убивает ее, протыкая своим копьем. И в то мгновение, когда он уже поразил ее, она смотрит ему в глаза. Их взгляды встречаются, и они влюбляются друг в друга. Этот единственный миг влюбленности, миг перехода из жуткого, кровавого, пожирающего потока времени в вечность, описан греческим поэтом так, что не остается никакого сомнения в том, что наряду с этим потоком, уносящим нас куда-то, действительно есть представление и мечта о чем-то вечном. Как греки говорили, «от взгляда рождается любовь».
Оказывается, это представление, некое клише, банальное и пошлое, о вечной любви, зиждется здесь. Здесь его корень. Это встреча лиры и трубы, поэтического слова и ужасного воинского подвига, который состоит в убийстве. Это встреча, которая, с одной стороны, загадку времени разрешает, потому что это потрясающая прекрасная сцена, а, с другой стороны, забивает ее в нас как еще более глубокую загадку, которую мы никогда не сможем разгадать.
Категория пространства в мифе
Возникновение пространства. — Пространство загробного мира. — Миф о лабиринте.
В так называемой мифологической картине мира пространство играет не меньшую роль, чем и в так называемой научной картине мира. И понятно, мы знаем это от Аристотеля, есть два сакраментальных вопроса, которые мы задаем сразу после того, как спрашиваем «что?» и «кто?», — это «где?» и «когда?». «Что, где, когда?» — есть игра такая, совершенно мифологическая по своему происхождению, потому что «где?» и «когда?» — это ответ на вопрос «что такое время?» и «что такое пространство?».
Что такое пространство в мифе? Пространство старше времени, потому что мы знаем от Гесиода (и не только от него, но Гесиод первым про это нам рассказал) про первоначальный хаос, который является безвидным и, вообще говоря, является ничем, и даже ничем не является, это просто — закрытая пасть. Когда эта пасть в один прекрасный день почему-то раскрылась, возник мир, потому что возникло небо и возникла земля. И между ними началось взаимодействие, земля начала порождать что-то. Это и есть первое пространство, здесь все зародилось. А уже потом возникло время. И эта первичность пространства страшно интересна, потому что ее мифологическая или, правильнее сказать, мифическая природа, это возникновение непонятно как, непонятно из чего, непонятно когда, потому что тогда и слова «когда» не было, еще до времени, но это то, внутри чего все существует.
Где находится то, что я сейчас говорю, в каком месте? Этот вопрос точно так же стоял и перед древними греками, когда они впервые начали повествовать о разных пространствах. И есть по крайней мере два мифа, интересных и важных для нас сегодня, важных в нашей обыденности, повседневности нашей, важных, потому что эти два мифа определяют и эту нашу повседневную жизнь. В сущности, они и только они должны нас волновать. Первый миф — это разговор о том, где мы оказываемся после того, как исчезаем, умираем. Это миф о загробном царстве. Это миф о таком месте, в котором, как нам кажется, или хочет казаться, или может казаться, находятся все люди, которые умерли, их очень много, место, в которое когда-то придем и мы, «примкнув к большинству», как говорили древние. И здесь есть один персонаж, играющий в философии XX века центральную роль и являющийся, возможно, главным героем мировой науки. Этого персонажа звали Сизиф. Он был сыном Эола, а еще, скорей всего, настоящим отцом Одиссея. Да-да, не Лаэрт, а именно Сизиф, потому что иногда даже Гомер его зовет «Сизифеем», «Сизифидом». Сизиф соблазнил Антиклею, мать Одиссея, которая, правда, сразу после этого вышла замуж за Лаэрта. Сизиф отличался невероятным хитроумием, он был самым умным из людей, был еще умнее, чем Одиссей. И он многое умел рассчитать, а многое просто угадывал по своему хитроумию. И этот Сизиф, например, первым из людей догадался, что есть замечательный способ не умереть после того, как тебя отправляют в Аид. Он велел своей жене не приносить жертв после погребения и, вообще говоря, не погребать его тело. И случилась ужасная вещь перестали поступать жертвы в подземное царство. Аид вынужден был отправить душу Сизифа обратно на землю, вернуть его, чтобы не погребенное вовремя тело договорилось с собственной вдовой, чтобы жертвы все-таки поступили, а то непорядок! Это такая шуточная, почти бурлескная история. Другая история о том же Сизифе, гораздо более известная, — это то наказание, которому он был подвергнут за свои многочисленные хитроумные поступки, граничившие с преступлениями. Обо всех рассказывать скучно: все это можно прочитать в другом месте. Но главное, что случилось с Сизифом, это вот что. Попав на тот свет, в Тартар, в это страшное загробное царство, где всем людям предстоит оказаться, хотим мы этого или не хотим, Сизиф занят странным делом, которое на всех языках называется «сизифовым трудом». Он закатывает на гору какой-то огромный кусок мрамора, и там этот кусок мрамора застывает на какой-то момент на вершине горы, а потом скатывается вниз. Некоторые считают, что прообраз этого камня — Солнце, но это черное солнце загробного мира, невидимое солнце. А некоторые говорят, что никакое это не солнце, а величайшее открытие человека — колесо. Что вот это вращающееся колесо — то открытие, для которого у природы нет аналога.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу