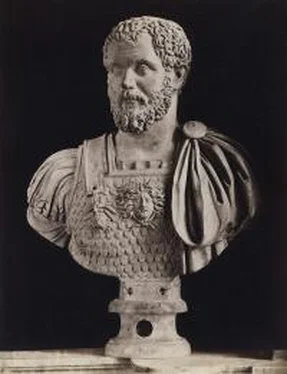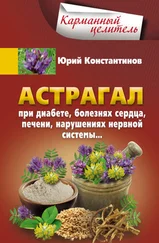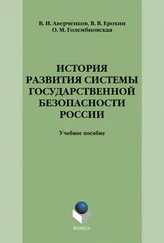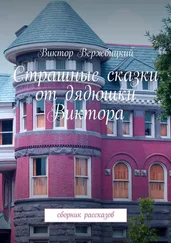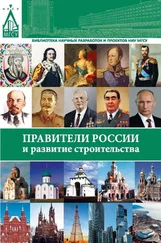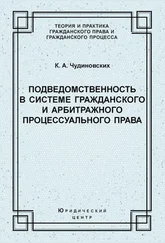Не менее, а может быть и более, трудную задачу представляет интерпретация сообщаемого Тацитом фактического материала. Мы уже не раз имели случай упомянуть о том, что многие современные исследователи не видят в приводимых историком фактах свидетельства жестоких политических преследований, осуществлявшихся преемником Августа. Но примечательно в этой связи, что Г. Мерчинг, автор монографии "Император Тиберий", вышедшей в свет в 80-ых годах XIX века, относящийся к Тиберию, в целом, весьма неплохо, рассматривая террор постсеяновского периода и насчитав 34 казни за семь лет, находит возможным писать о вакханалии убийств и реках крови. [533] Мерчинг Г. Император Тиберий. Варшава, 1881. С. 154–160.
На него, представителя либерального и гуманного XIX столетия эти цифры произвели куда более гнетущее впечатление, чем на учёных XX века, в течение которого ценность человеческой жизни упала как никогда низко.
Таким образом, те фактические данные, которыми мы, не в последнюю очередь благодаря Тациту, располагаем, допускают различные и даже взаимоисключающие интерпретации в зависимости от исходных ценностных установок. Выбрать верное их толкование можно, мы убеждены в этом, только приняв в расчёт мнение самого автора "Анналов". Свет на политические события той уже бесконечно далёкой от нас эпохи проливают оценки, суждения и характеристики Тацита; общий контекст, а порою, даже тональность его сообщений служат нам путеводным маяком через туманы столетий, скрывших от наших глаз Рим времени первых Цезарей.
В развитии системы принципата при императоре Тиберии можно выделить четыре основных периода. Своего рода путевыми вехами, отмечающими этапы эволюции режима Тиберия, стали следующие события: таинственная смерть Германика в Антиохии на Оронте 10 октября 19 г.; смерть Друза, возможно отравленного Сеяном, в 23 г., и, наконец, казнь Сеяна 18 октября 31 года.
Первый период (14–19 гг.) характеризуется следующими основными особенностями. Для Тиберия это время закрепления положения в новом качестве главы государства и императорского дома. В отношениях с сенатом и обществом в целом он пока стремиться придерживаться образа действий Августа. Дополнительным сдерживающим фактором в этой связи выступает Германик, официальный наследник Тиберия, выдвинутый германскими легионами в качестве альтернативного кандидата на престол (Tac. Ann., I, 31; Suet. Tib., 25; Calig., 5).
В процессах об оскорблении величия, практика которых служит для нас важнейшим показателем постепенного изменения отношений власти и общества в империи, налицо та же тенденция: их не много, и, в основном, они заканчиваются снятием обвинения. В то же время уже в первые годы принципата Тиберия создаются прецеденты преследования на основании lex majestatis за преступления против культа Августа (дела всадников Фалания и Рубрия (15 г.)), словесные нападки на принцепса и других членов правящего дома (дела Грания Марцелла и Аппулеи Вариллы (соответственно 15 и 17 гг.)), оккультную практику против первых лиц государства (дело Либона Друза (16 г.)) (Vell., II, 130; Tac. Ann., I, 73–74; II, 27–32; III, 38; Dio, LVII, 15). Эти и другие подобные действия начинают рассматриваться как политические преступления ( crimen laesae majectatis ).
Ряд причин способствовал сравнительно спокойному началу правления Тиберия. Это и неуверенность, вполне естественная для человека, оказавшегося в новой, непривычной для себя роли, и стремление приобрести необходимый главе государства авторитет ( auctoritas ) путём подражания предшественнику, [534] Егоров А. Б. Становление и развитие системы принципата. Автореф. дисс… д-ра ист. наук. СПб., 1992. С. 24.
и, наконец, невыгодная для императора династическая ситуация.
В современной исторической литературе прочно укоренилось мнение о том, что первые годы принципата Тиберия были периодом сотрудничества сената и принцепса, временем относительной свободы и политического либерализма. [535] Smith Ch. E. Tiberius and the Roman Empire. Baton Roge, 1942. P. 223.
Подобная оценка представляется нам справедливой лишь в сравнении с последующем временем, и, в особенности, со страшным финалом принципата Тиберия. Рост авторитарных тенденций в этот период протекал в скрытой, латентной форме и не сопровождался политическими репрессиями в широком масштабе. Механизм террора пока ещё только отрабатывался.
Второй период принципата Тиберия начался смертью Германика и последовавшим затем судом над его заместителем легатом Сирии Кальпурнием Пизоном (Tac. Ann., II, 71–72; III, 13–15; Dio, LVII, 18). Смерть племянника, в котором после восстания германских и паннонских легионов в 14 г. Тиберий не мог не видеть потенциального соперника, очень укрепила его положение, особенно в династическом плане. Закрепившись у власти принцепс постепенно меняет курс: в начале 20-ых гг. в политике Тиберия происходит поворот в сторону усиления репрессивного начала. По инициативе Луция Элия Сеяна, сумевшего за эти годы подняться до положения ближайшего помощника императора, разбросанные по Италии преторианские когорты были сконцентрированы в столице (Tac. Ann., III, 29; Dio, LVII, 19). Стиль процессов об оскорблении величия сделался более жёстким: в этом плане знаковыми представляются дела Эмилии Лепиды (20 г.) и Клутория Приска (21 г.) (Tac. Ann., III, 22–23, 45–51; Dio, LVIII, 20). Таким образом, характерными чертами второго периода (19–23 гг.) правления Тиберия были укрепление позиций принцепса в качестве признанного главы государства и дома Цезарей, ужесточение императорского режима и рост влияния префекта претория.
Читать дальше