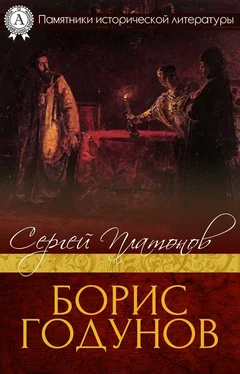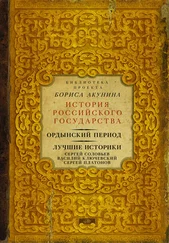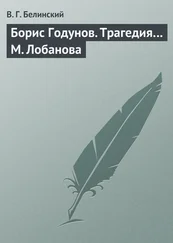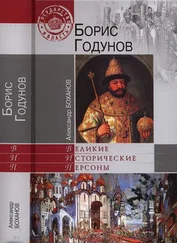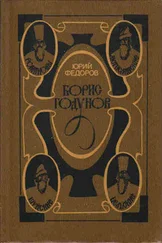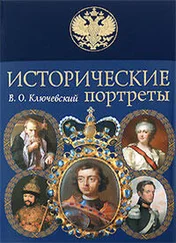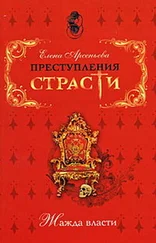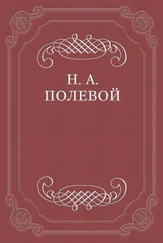Дело Бельского, как и все, связанные с именем этого авантюриста, представляется малопонятным. По летописцу, дело было так. Борис послал Бельского на «дикое поле» на р. Донец, на устье р. Оскола, ставить на Донце «Новый Царев Борисов город». Наказ Бельскому был дан летом 1600 года [10] Наказ, изданный проф. Багалеем, датирован им 1600 годом. В начале документа сказано, что царь велел Бельскому ехать «на Донец на устье Оскольское» лета 7108 (1600) «июля во 5 день», а ниже: велено Бельскому «стать на Ливнах за неделю до Ильина дня нынешнего 107 (1599) года». Следуем дате, принятой издателем, и относим документ к 1600, а не к 1599 году.
. Летописец говорит, что на далекий юг, служивший для Бельского, очевидно, местом почетной высылки из Москвы, Бельский, «человек богатый», пошел «с великим богатством» и «всяким запасом». Работы на месте он начал «своим двором», то есть частными средствами и своими людьми, а всей рати, посланной с ним, велел затем делать крепость «с того образца», то есть по образцу, данному его двором. Таким образом, «двор» Бельского, его люди и холопы, стали на виду в Цареве Борисове городе, как ранее были на виду и бросались в глаза в Москве, когда в 1598 году Бельский поспешил туда «с великим людом» на царское избрание. А кроме того, могла возбудить подозрение та приветливость, какую Бельский показывал всей рати, посланной с ним в новый город. Он ее поил, кормил и дарил деньгами, платьем и запасами. Его, конечно, благодарили и хвалили, а он, по слухам, величался, говоря, что царь Борис на Москве царь, а он царь в Цареве-Борисове. Слухи дошли и до Москвы, и «пройде на Москве про его от ратных людей хвала велия о его добродетели» (как уклончиво выразился летописец). Эта «хвала велия», принявшая форму доносов, смутила Бориса: в нем уже, по словам Тимофеева, было готово подозрение против Бельского, что он желает царства. Бельского вызвали в Москву, допрашивали с унижением и, как говорят, с пытками, лишили думного чина, окольничества, конфисковали имущество, распустили его «двор», подвергли его даже телесному наказанию и сослали в низовые города, на Волгу, в тюрьму. В Поволжье Бельский и пробыл до смерти Бориса и воцарения самозванца, который оказал ему большую милость и возвел в бояре.
Дело Бельского было вершено, вероятно, в конце 1600 года. Приблизительно тогда же, по нашему мнению, началось обширное дело Романовых, в которое были затянуты многие родственные Романовым семьи князей Черкасских, князей Сицких, князей Репниных, князя Шестунова, Шереметевых, Карповых и др. По словам летописца, дело началось с доносов. Холопы Романовых правительством всячески понуждались доносить на своих «государей», за которыми Борис счел необходимым установить своего рода полицейский надзор. Однако доносы не давали достаточных поводов для преследования, пока не поступило от казначея Александра Никитича Романова, от Второго Бартенева, заявление, что он готов показать на своего «государя» все, чему его научат. Тогда Семен Никитич Годунов, заведовавший при Борисе политическим сыском и бывший (по выражению Карамзина) «главным клевретом нового тиранства», наложил «всякого корения в мешки» и научил Бартенева подложить их в «казну» Александра Никитича, а потом «известить» правительство об этих «кореньях». Бартенев так и сделал: он «довел», то есть донес, на своего государя, что тот занимается «ведовством», иначе ворожбой, и держит у себя «коренья». Насчет «коренья» в подкрестной записи царю Борису было сказано немало, чтобы «зелья лихого и коренья» не давать никому и ни от кого не принимать во вред царю Борису и его семье и «ведунов и ведуний не добывати на государское на всякое лихо». Когда по обыску коренье у Романовых нашлось, его привезли к патриарху и туда же собрали всю заподозренную в колдовстве семью «Никитичей». У патриарха «бояре же многие на них, аки зверие, пыхаху и кричаху». Этой шумной сценой негодования на «изменников, хотевших царство достати ведовством и кореньем», начался процесс Романовых.
Было бы ошибочно думать, что обнаружение корешков считалось тогда ничтожным поводом для преследования. Обвинение в колдовстве, напротив, было в ту эпоху одним из самых тяжких, и борьба с ведовством составляла серьезную заботу церковной и мирской власти. По словам проф. Новомбергского, «эта борьба отличалась не меньшею жестокостью, чем в Западной Европе: Московская Русь в борьбе с ведунами пережила и повальный терроризирующий сыск, и пытки, и публичное сожжение обвиненных в чародействе». Все это, кроме только сожжения, было применено к Романовскому кругу. Нашли коренье у Александра Никитича, арестовали же всех его «сродников», не только Романовых, но и «свойство» их — Черкасских, Сицких и т. д. Одного из князей Сицких с его семьею даже привезли из Астрахани для допроса и розыска. Особенно же взялись за Федора Никитича и его братьев, а также за князя Ивана Борисовича Черкасского, которого подозревали в чем-то особенно тяжком. Этих лиц «приводима не одинова к пытке» (то есть допрашивали «с пристрастием»), а людей их — тех и на самом деле «пытаху розными пытками», и «помираху многие на пытках». Дело окончилось осуждением подсудимых. Федора Никитича сослали на С. Двину в Антониев Сийский монастырь, предварительно постригши его в монахи, чем навсегда уже лишили его возможности искать престола и мечтать о царском венце. Братьев его и родню также сослали, а жену его Ксению Ивановну и тещу Марию Шестову притом и постригли. Для их стражи и приставов виновные и осужденные были квалифицированы как «злодеи, изменники, хотели царство достати ведовством и кореньем».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу