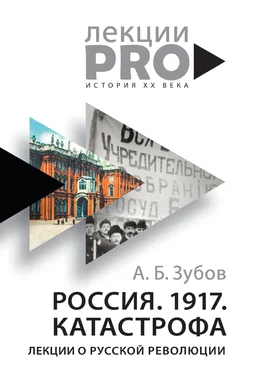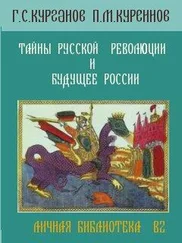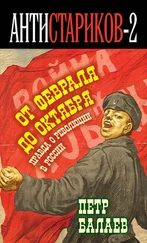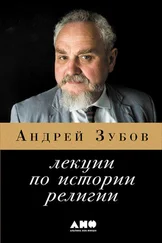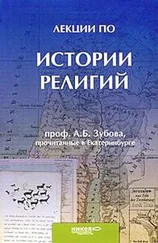В этот же день он записывает: «Уровень сексуальной морали в деревне понизился до крайних пределов. Хозяин, глава семьи, присвоил себе неограниченную власть над всеми женщинами, проживающими под крышей его дома. Самым обычным явлением является акт кровосмешения между хозяином и его снохой, когда молодой муж уходит на войну или на заработки в город. Этот вид сожительства настолько распространён, что существует специальное имя для него – „снохачество"».
К сожалению, обе эти констатации абсолютно достоверны и подтверждаются русской статистикой и судебной хроникой. Не только это. Третье – это рост хулиганства, т. е. беспричинных преступлений, в частности против Церкви, но и вообще – поджоги, убийства, избиения становятся очень распространённым явлением.
Убийца Столыпина Мордехай (Дмитрий) Богров написал в своём дневнике незадолго до совершения преступления (август 1911 года): «Нет никакого интереса к жизни. Ничего кроме бесконечного ряда котлет, которые мне предстоит скушать. Хочется выкинуть что-нибудь экстравагантное». Ну и «выкинул», естественно. Отмечу, что Дмитрий Богров происходил из очень богатой киевской купеческой еврейской семьи. То есть никакой классовой ненависти он ни к кому не испытывал, как вы понимаете. Ему было скучно жить. Почему скучно? Потому что старые социалистические идеалы, которыми жила русская интеллигенция, у неё исчезли. Новые религиозные идеалы только стали появляться и охватили пока узкий слой.
А Церковь? А Церковь оставалась в парализованном положении. На самом деле Церковь тоже была значительно свободнее, чем, скажем, в советское время. И хотя она была под властью государства, всё-таки это была совсем не атеистическая большевицкая власть. Но Церковь в те годы стремилась обособиться, стать независимой от государства. С 1905 года активно говорится в Церкви о необходимости проведения поместного собора. Государь принимает решение, что необходимо провести собор, начинает работать предсоборное присутствие. К декабрю 1906 года все материалы для нового собора готовы. В 1907 году собор должен быть созван, но нет, как вы помните, собор был созван через десять лет, в августе 1917 года. То есть Церковь могла принять те же самые решения на десять лет раньше, она была готова их принять. Мы знаем материалы, которые готовили в епархиях, которые отсылали епископы в Синод. Там были очень интересные прогрессивные суждения, которые могли бы изменить жизнь Церкви. По крайней мере, проповедь резко бы усилилась и язык богослужения был бы русский, и многое-многое другое. Но Государь не захотел этого, а он был верховным ктитором Церкви. И Церковь оставалась парализованной до самого падения монархии. И это объясняет тоже отчасти слабость проповеди, слабость церковного действия.
И вот, дорогие друзья, результат. Результат тоже очень важный. Есть такой интересный человек, совершенно сейчас незаслуженно забытый, Андрей Михайлович Рыкачев. Его отец, Михаил Александрович, значительно переживший сына, – географ с мировым именем, потом существовавший в Советском Союзе. А Андрей Михайлович, его сын, был публицистом, юристом и в 38 лет погиб под Краковом, добровольцем пойдя на фронт. Вот что он пишет в статье «О некоторых наших предубеждениях» в журнале «Русская мысль» за зиму 1913/14 года: «В России чувствуется слабость организующих сил, отсутствие общественного подъёма и радости созидания. В русском обществе сильны предубеждения против предпринимательской деятельности. Под влиянием марксистских теорий интеллигенция считает предпринимателей эксплуататорами. Она готова служить им за жалование, подчас даже высокое, но она не хочет сама браться за предпринимательскую деятельность. Считается, что честнее быть агрономом на службе земледельческого земства, чем землевладельцем, статистиком у промышленника, чем промышленником. Бедность общественной культуры и приниженность личности – вот что проявляется в этом пристрастии к третьим местам, в этом страхе перед первыми ролями, в этом отказе от неприкрытого мужественного пользования властью… Фактически возможно быть преуспевающим и влиятельным предпринимателем, не поступаясь ни своими политическими убеждениями, ни своим пониманием нравственного долга… Не здесь ли прекрасное приложение сил для всех, кого не удовлетворяет окружающая действительность… кого влечёт к борьбе и промышленность!»
То есть он говорит о том, что необходимо самим переустраивать жизнь, идти в промышленность, в торговлю и так бороться за будущую Россию. Этот удивительный человек, экономист, глубоко верующий к тому же, погибает на фронте в ноябре 1914 года.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу