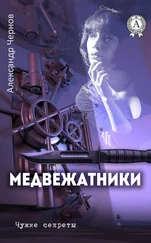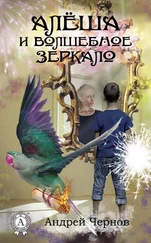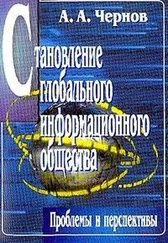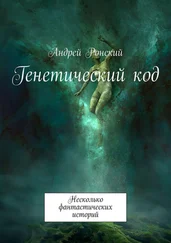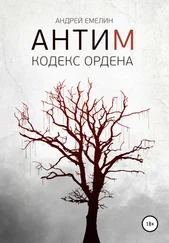Привлекло внимание специалистов и подробнейшее изображение наряда знатной половчанки.
«Шапочка-колпачок плотно охватывает голову и украшена по краю широкой лентой, орнаментированной вертикальными насечками. Поверх колпачка надет ещё один головной убор, узким языком спускающийся на лоб и широкой лопастью прикрывающий весь затылок. На затылке к лопасти прикреплена застёжка в виде двух квадратов, а на спине лопасть разделяется на две узкие, заострённые к концам полосы (косы?). От макушки к плечам идут, обрамляя голову, два роговидных украшения. Лицо широкое, с выдающимися скулами. Брови и нос изображены в виде Т-образной фигуры. Рот небольшой, с пухлыми губами. Серьги крупные, круглые, с тремя подвесками. Вокруг шеи — ожерелье из подвесок такого же типа и формы, что и у серёжек. Ниже ожерелья — массивная витая гривна. Статуя изображена в облегающем фигуру кафтане. Рукава кафтана оканчиваются на запястьях узкими манжетами. По плечам и предплечьям проходит плавно изгибающаяся, украшенная полукруглыми фестонами нашивка или «пелерина». Сзади видны зубчатые следы этой «пелерины». По талии кафтан перепоясан широким гладким поясом; ниже талии он спускается тремя фестонами, средний из которых имеет форму овальной лопасти», — дает в своей статье подетальное описание одежды Гераськова.
Впрочем, изображение богатого наряда и украшений при всей своей «натуралистичности», по всей видимости, лишь подчеркивали главный замысел художника — создать «живой» образ прародительницы, родоначальницы рода.
«Бёдра обнажены, на ногах сапоги с острыми наколенниками. Грудь, как и у всех женских половецких изваяний, открыта. Под грудью изображён младенец. Ребёнок лежит поперёк живота матери, головой касаясь правой груди, а левой рукой держится за левую грудь. Поза его неестественна для сосущего младенца — он изображён в разворот, лицом к зрителю. Руки у него слишком длинные, ноги наоборот, короткие; на длинном тельце намечены груди и подчёркнут, как и у матери, признак пола. Ребёнок, несомненно, девочка. Руки женщины не касаются ребёнка — они, как этого требовал строгий канон, держат сосуд (очевидно, горшкообразный с выделенными венчиком и донцем). Дно его немного шире горла», — установила Гераськова.
По мнению археолога, тщательность отделки скульптуры свидетельствует, что она относится «к эпохе расцвета половецкого скульптурного искусства». Вывод этот не раскрывает загадку, а лишь добавляет новые.
«Статуя, несмотря на сходство с подавляющим большинством половецких изваяний, изображавших женщин, весьма необычна. Не нарушив обязательных канонических законов половецкой ритуальной скульптуры, мастер создал образ матери с ребёнком, своеобразную статую половецкой «мадонны». Изваяние не имеет себе подобных в средневековой кочевнической скульптуре. Находка его открыла новую, неизвестную ранее страницу самобытного половецкого монументального искусства», — заключила Гераськова в 1974 году.
«Чернухинская мадонна» — наглядное свидетельство того, насколько мало мы еще знаем об истории половцев и их верованиях. А ведь они теснейшим образом контактировали с русичами.
Крупный советский специалист по кочевым народам Средневековья Светлана Плетнёва также обратила пристальное внимание на обнаруженную у Чернухино половецкую статую: «Обнаруженная в разрушенном кургане у с. Чернухино статуя представляет собой единственную пока находку изваяния, изображающего кормящую мать с ребёнком у груди. Несмотря на необычность скульптуры, она, несомненно, половецкая».
По ее мнению, «статуя женщины с ребёнком несет большую смысловую, вернее, культовую нагрузку». Она приходит к выводу, что обнаруженная статуя может свидетельствовать о сохранении пережитков матриархата у половцев.
«Статуя женщины с ребёнком позволяет нам поставить вопрос ещё об одном важном факте сохранения у половцев норм матриархальных отношений, а именно о сохранении матрилинейного счета родства. Женщина изображена с обнажённой грудью. К этой груди приник ребёнок — продолжатель рода. Идея покровителя рода, дарующего силы, выражена здесь особенно ярко и отчётливо. Однако ребёнок не мальчик, как того следовало бы ожидать, исходя из тюркского фольклора. Это девочка. Статуя символизирует, очевидно, образ женщины, дающей жизнь и силы женщине же — непосредственной воспроизводительнице рода. Недаром поэтому у грудного младенца так явственно подчёркнуты мастером признаки пола», — утверждает Светлана Плетнёва.
Читать дальше