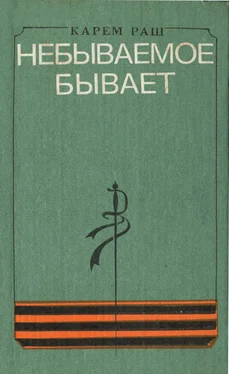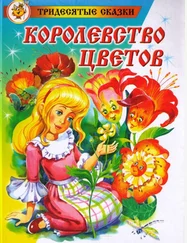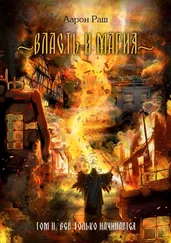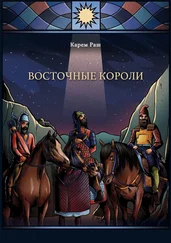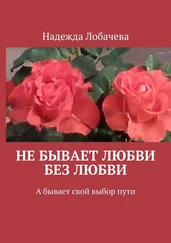Время сатанинской всемирности кончилось. Гулаг забил осиновый кол в идею двусмысленной планетарности. Единство только в национальном многообразии и благородстве устоев.
Укорененность в русской жизни была главной чертой поэта. С годами она проявлялась все сильней и сильней:
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам...
Последние стихи поэта полны иноческой простоты и апостольской мудрости. Сколько литераторов примерялось со своим аршином к поэту. Присваивали его («мой поэт»), фамильярничали с ним, даже такие деликатные, как Блок. Не говоря уж о пошляках, которые, «прогуливаясь» с Пушкиным, пачкают его. Чем мельче были литераторы, тем бесцеремоннее с ним обращались. Сами себя возвели в «серебряный век» русской поэзии в канун рокового 1914 года. «Декаданс» в переводе с французского «распад», «разложение». Декадентское ущербное кривлянье, которое не дало ни одного четверостишия в детские хрестоматии, самозванцы объявили «серебряным веком». Сейчас они называют это «самовозвышением». Втайне они ненавидели Пушкина, потому придумали, что его якобы убил воздух николаевщины. Уловка мелких душ. Если перевернем листок, на котором пушкинские знаменитые строки «Пора, мой друг, пора...», то на обороте прочтем завет для нас и клич ко всей жизни поэта, пришедшего через французскую заразу и импортную ущербность к спасительному приятию родных устоев. Вот что он написал незадолго до боя на Черной речке: «Скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь, религия, смерть».
Ни слова не прибавишь к этой исповеди величайшего из наших «деревенщиков». Он собирался жить долго, породы был крепкой, склада живучего. Он дал разветвленное и жизнеспособное потомство. И сам прожил бы, как дуб. Кто знает, не пережил ли бы он всех лицеистов и не был бы тем самым, кто последний праздновал лицейскую годовщину и сказал бы последние чудные слова.
Пушкин рвался в деревню навсегда, назад к истокам. Он шел к долгой и размеренной мудрой жизни. Что бы стал делать он в наши дни?
То же, что и тогда. Уехал бы вон из столицы.
Вернулся бы в деревню подальше от асфальтовой пустыни и типовых землянок, где сидят литераторы и стругают свои хитрые шиши.
При жизни он много ездил и мечтая о зарубежье. Но сегодня, убежден, не покинул бы пределов России. Не смог бы смотреть в глаза чужеземцам. Да и как покинуть, как уйти, как говорить за границей с людьми? Всю жизнь я не мог попять, хотя и не осуждал других, и не могу постигнуть до сегодняшнего дня, как можно уехать за границу по турпутевке, на симпозиум или еще какую говорильню и смотреть иноземцам в глаза, когда у тебя за спиной на Родине по русским лесам лежат незахороненными со времен воины около миллиона твоих сестер, братьев и отцов. Как можно бегать по чужим магазинам или смаковать недостатки в стране, за которую и ты несешь личную ответственность, когда миллион сирот при живых матерях плачут по ночам в подушки? Немеет язык. Стыд не дает поднять глаза, как представишь, что оставил за спиной.
Оглянешься — окаменеешь.
Директор краеведческого музея во Владивостоке Сушков, в прошлом полковник, рассказывал мне, что у них на старом офицерском кладбище, где похоронены павшие в русско-японской войне офицеры, был воздвигнут храм. В наше время в этот собор вселили школу-интернат для умственно отсталых детей. Ребята бродили по кладбищу, копались в склепах, выкапывали из могил ордена, пряжки, кортики и пуговицы от мундиров и забавлялись ими, как диковинками. Сушков прервал этот короткий рассказ. Ему было трудно говорить. Он не сказал ни слова осуждения ни в чей адрес. Не напоминаем ли мы этих несчастных детей? Не нас ли они изображали? Не наше ли телевидение они копировали?
Рано или поздно за ложь расплачиваются все. Те, кто больше всех ругал систему, первыми бросились баллотироваться в народные депутаты, прихватив на помощь неформальных пачкунов. Кто недавно яростнее всех осуждал Академию педагогических наук, первым кинулся подавать заявление о приеме в члены этой академии. Еще не собрался Съезд депутатов, а уже депутат-экономист 3 мая 1989 года через «Литературную газету» сделал храбрый запрос Министру обороны по поводу гибели нашей подводной лодки. Я лично знаю многих ученых-экономистов, которые сделали себе карьеру, печатая на научном языке открытия о том, что в магазинах нет мяса, что очереди — это плохо, что покупать зерно за границей — признак слабого земледелия, и т. д. Но запрос экономиста-депутата говорит о том, что в политической культуре у нас дела хуже, чем даже в той науке, которую он представляет. Запрос краткий, но в нем много провинциального самомнения, развязности, комичных полурусских оборотов речи. Создается впечатление, что автор не мог совладать с распиравшей его гордостью от новой своей депутатской роли и хотел оповестить всех, что он уже избран и ужо задаст перцу этим «бюрократам». Почему экономист делает запрос через «Литературную газету»? Почему не в парламенте перед депутатами? Почему к Министру обороны и кандидату в члены Политбюро обращается как к провинившемуся денщику? Был ли редактор на службе, когда прошел этот непристойный выкрик?
Читать дальше