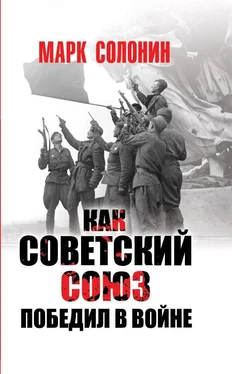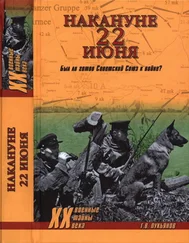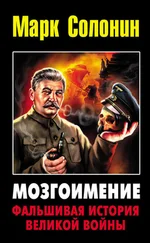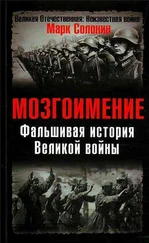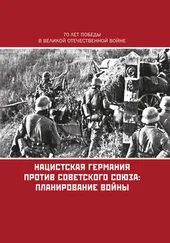Боевые действия «паромов Зибеля» начались в сентябре и закончились в последние дни октября 42-го года, то есть пришлись на период самых сильных осенних штормов. «Стальные ящики» с черепашьей скоростью в 5–6 узлов пересекали Ладогу по диагонали с севера юг (более 150 км в один конец), атаковали советские суда и даже произвели высадку десанта на маяке Сухо. Итоговый немецкий отчет констатирует бесперспективность всей этой затеи ( «ничтожные успехи всех задействованных подразделений никоим образом не могут оправдать средства, выделенные на ведение боевых действий на Ладожском озере» ), отсутствие у немецких зенитчиков минимальных навыков судовождения и непригодность паромов для ведения морского боя. Нет в отчете только одного – сомнений в принципиальной возможности осуществления судоходства на Ладоге.
Не было таких сомнений и у советского руководства, которое намеревалось провести грандиозную транспортную операцию на Ладожском озере – правда, перемещать крупнотоннажные грузы предполагалось не в Ленинград, а из Ленинграда. 4 октября 1941 г. Сталин провел по радиосвязи совещание со Ждановым и Кузнецовым, в ходе которого поставил задачу эвакуировать танковый производственный комплекс: «Вывезти на восток из Ленинграда станки, пресса, электрооборудование, литейное, кузнечное и прокатное оборудование… Эвакуацию всего вышеупомянутого осуществить через Ладожское озеро на Волховстрой» . Телеграф отстучал ответ: «С Вашими предложениями согласны. В суточный срок предоставим весь план эвакуации Кировского, Ижорского и 174-го завода, а также заводов, кооперированных с ними по танковому производству. Все подготовительные меры по эвакуации начинаем сейчас же» .
В порту Осиновец (на «необорудованном берегу», что спешат подчеркнуть некоторые современные авторы) закипела работа: земснаряды углубляли дно, строились причалы, монтировались портальные краны; предстояло грузить не 50-кг мешки с мукой, а «кузнечное и прокатное оборудование» весом в десятки тонн. Что-то реально успели погрузить и вывезти на «большую землю» до 19 ноября, когда в связи с начавшимся ледоставом было принято прямо противоположное решение: эвакуацию прекратить, оборудование с западного берега Ладоги вернуть в заводские цеха.
В любом случае, великие труды и накопленный опыт не пропали даром, и во «вторую навигацию» (летом-сенью 1942-го г.) по Ладожскому озеру перевезли в двух направлениях 1,1 миллиона тонн грузов! В Ленинград было доставлено 790 тыс. тонн, что в ТРИНАДЦАТЬ РАЗ больше грузопотока навигации 1941 г. Одного только продовольствия в город завозили в среднем по 2 тыс. тонн в день (не считая живого скота, доставленного в общем количестве 16,5 тыс. голов). Из Ленинграда в навигацию 1942 г. было эвакуировано 540 тыс. человек, вывезено на «большую землю» 28 тыс. единиц промышленного оборудования, 138 паровозов и 2027 вагонов, платформ и цистерн.
Сомнения (точнее говоря – истеричные попытки отрицать очевидное) в возможности судоходства по Ладоги возникли лишь в самые последние годы – после того, как вопрос о причинах ленинградского голодомора стал задаваться публично и предметно. Одним из самых «неотразимых» аргументов считается такой: «если бы плавание по Ладожскому озеру было возможно, то зачем же стали копать каналы вдоль южного берега протяженностью в сотню километров?» Это очень простой вопрос, и ответ на него давно известен.
После того как Петр Первый решил построить город на невских болотах, неожиданно и внезапно (как всегда) выяснилось, что «окно в Европу» прорублено в таком месте, которое не имеет транспортного сообщения с внутренними регионами страны; даже снабжение новорожденного города предметами первой необходимости выросло в неразрешимую проблему. Решение было найдено через создание так называемого Вышневолоцкого водного пути. Система каналов соединила реки Тверца, Цна, Мста, Волхов, в результате чего стало возможным проплыть от Твери на Волге до Ладожского озера, а затем по Неве в Санкт-Петербург. Однако реки эти были маловодными, и осадку используемых судов пришлось ограничить 67 см весной и 53 см летом; баржи вели по водному пути конской тягой (10 лошадей тянули баржу со средней скоростью 2 км в час).
Пройти по Ладожскому озеру такие суда не могли, причем сразу по двум причинам: плоскодонное «корыто» опрокидывалось на первой же волне; ни лошади, ни бурлаки не могли тянуть баржу, так как берега любого озера (в отличие от берега реки) изрезаны бесчисленными шхерами. Вот поэтому и пришлось рыть канал от места впадения реки Волхов в Ладогу до Невы у Шлиссельбурга, а вдоль берегов канала выкладывать булыжником дороги («бечевники»), по которым брели лошади. В конце 19 века, после появления железных дорог, транспортное значение Вышневолоцкого пути упало до нуля; Старо-Ладожский канал затянулся илом, Ново-Ладожский использовался в качестве затона для зимней стоянки судов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу