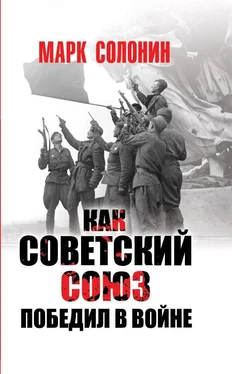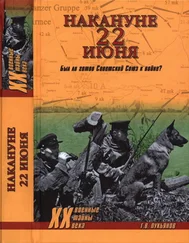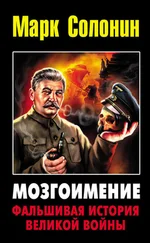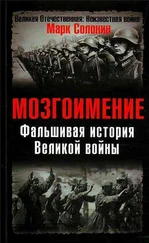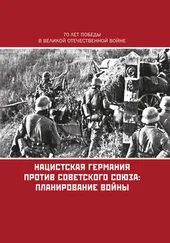Потери 47-го танкового корпуса 2-й ТГр и в этом случае были значительно большими; возможно, тут сказалось отсутствие у командования опыта управления танковым соединением в бою – и 17-я, и 18-я танковые дивизии были сформированы на базе пехотных соединений поздней осенью 40-го года. В итоге 17-я тд к 4 июля имела в строю всего 80 боевых машин (менее 35 % от исходной численности). Как бы то ни было, командование вермахта оценивала свои подвижные соединения как еще вполне боеспособные.
Второй причиной, по которой немцы так спешили возобновить наступление, была фатальная недооценка противника. Командование вермахта всерьез считало, что те соединения Красной Армии, которые они смогли разгромить в первые две недели войны, это и есть «основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России» , и теперь остается только гнать разрозненные остатки разбитой армии на восток, к Ленинграду и Москве.
1 июля 1941 г. командование 3-й ТГр выпустило «Указания по дальнейшему ведению боевых действий», в которых бодро констатирует: «По имеющимся на сей момент сведениям нет оснований для того, чтобы предположить наличие свежих сил неприятеля южнее верховья р. Западная Двина» (в реальности на тот момент в указанном районе развертывались две (!) общевойсковые армии Второго Стратегического эшелона). Приложенная к упомянутому выше приказу 3-й ТГр от 3 июля разведывательная сводка № 10 дает такую оценку сил и намерений противника: «Отмечается наличие отдельных разрозненных частей в районе Витебск, Дисна, оз. Нарочь, Борисов… Можно сделать вывод о том, что русские не будут оборонять сектор Витебск, Дисна ввиду отсутствия достаточных сил и нехватки времени. Противник, однако, может оказать сопротивление местного масштаба в районе плацдармов и переправ…»
Исходя из такой оценки возможностей противника, командование 3-й ТГр разработало отнюдь не тривиальный план наступления. Казалось бы, условия местности подсказывали оптимальный маршрут движения через так называемые смоленские ворота – полосу открытой местности шириной 70 км от Витебска до Орши, между реками Западная Двина и Днепр. Однако дивизии 3-й ТГр двинулись не на восток, а на север от Минска. Обойдя непроходимый для танков лесисто-болотистый район в верховьях реки Березина, они должны были форсировать Западную Двину в районе Полоцка, выйти на шоссе Полоцк, Витебск и далее на север к Невелю, затем повернуть на юго-восток, вернуться на левый (южный) берег Западной Двины и наступать через Велиж на Ярцево (н. п. в 50 км северо-восточнее Смоленска).
Такие странные маневры имели своей целью использовать дороги с твердым покрытием к северу от Западной Двины, не перегружая сверх меры главную магистраль Минск, Орша, Смоленск, которая была отдана для движения 47-го танкового корпуса 2-й ТГр. Понятно, что решиться на двукратное форсирование полноводной реки можно было только в предположении, что «русские не будут оборонять сектор Витебск, Дисна ввиду отсутствия достаточных сил» .
Практически к 4–5 июля сложилась следующая дислокация подвижных соединений вермахта на северном фланге ГА «Центр». Четыре дивизии (19 тд, 20 тд, 14 мпд, 18 мпд) 3-й ТГр вышли к Западной Двине и начали форсирование реки в полосе от Дисна до Улла. 20-я мотопехотная дивизия подходила к Лепелю, имея своей задачей поддержать действий 20-й тд при форсировании Западной Двины, 12-я танковая оставалась в районе Минска. Единственным соединением 3-й ТГр оказавшимся восточнее реки Улла была 7-я танковая дивизия, которая вела наступление вдоль южного берега Западной Двины, на Бешенковичи, Витебск. 18-я танковая дивизия (47-й танковый корпус 2-й ТГр) с боем прорвавшись через переправы на реках Березина и Бобр, двигалась по автомагистрали на Толочин; вторая танковая дивизия этого корпуса (17 тд), переправившись через Березину у Борисова, проселочными дорогами шла к Сенно.
Стремительный разгром войск войск Прибалтийского и Западного военных округов (соответственно, Северо-Западного и Западного фронтов) не стал прологом к падению Ленинграда и Москвы лишь потому, что тов. Сталин к войне готовился. И не абстрактно-теоретически, а вполне конкретно – к войне, которая должна была начаться в июле-августе 1941 г.
Точные даты начала стратегического развертывания Красной Армии назвать не представляется возможным, так как процесс был покрыт беспрецедентной даже для Советского Союза завесой секретности. Из того, что известно, первыми 22 мая 1941 г. начали погрузку в эшелоны соединения 16-й Армии и 5-го мехкорпуса; с учетом огромного расстояния (от Забайкалья и Монголии до Бердичева, Шепетовки) и сохраняющегося режима работы железных дорог мирного времени они должны были прибыть в указанный район с 17 июня по 10 июля. В конце мая – начале июня было принято решение о формирований шести новых армий на базе командования и войск внутренних округов: 19-й (Северо-Кавказский округ), 20-й (Орловский округ), 21-й (Приволжский округ), 22-й (Уральский округ), 24-й (Сибирский округ) и 28-й (Архангельский округ).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу