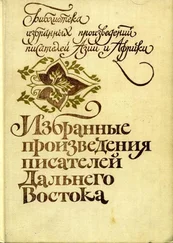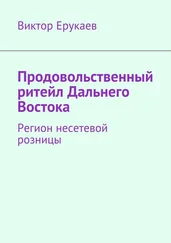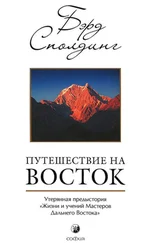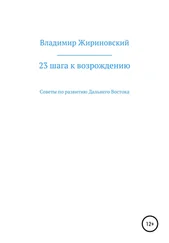Что выпало на долю этих людей? Труд, работа. Какие же? "Стройки века", лесоповал, путины, экспедиции и партии, рудники и россыпи - всё поденщина и каторга. А что же оставалось тут наработанного? Искореженная земля, содранный с ее лика лес, затаренные минтай и горбуша... Как этот труд мог соединить "бесконечное с конечным и наоборот"? Никак. Поденщина породила плебс, замечал еще Ф. Энгельс. Делать такую работу и оставаться человеком непросто.
Временность противоестественна в социальном отношении, она ведь отнимает у любого из нас главное - стабильность, которая соединяет человека с его прошлыми поколениями и уносит его в вечность. Временность, как установка, по отношению к миллионам людей не может быть оправдана ни морально, ни экономически.
И потому вахтовый, экспедиционный методы освоения природных богатств - вовсе не выход для нашего региона. Разумеется, таким образом можно сэкономить часть средств, идущих на социальные нужды. Но подобная экономия на социальной инфраструктуре, это "усеченные" семьи, разводы и, следовательно, сегодняшние потери завтрашнего коренного населения.
В отдельных случаях, хочешь-не хочешь, а вахтовая технология необходима и единственно возможна. Так, например, можно эксплуатировать отдаленный рудник, брать лес, ловить рыбу. Но постоянно держать на колесах, заставлять сидеть на чемоданах миллионы людей? Весь Дальний Восток такими набегами не освоить.
Но неверно было бы все травмы "бичей" и "бомжей" свести к их работе. В истории русского человека обычными были отхожие промыслы, извоз, крупные стройки с их знаменитыми артелями, наконец, барщина. Но держался же чем-то человек? "Неужели вам не приходило в голову, глядя на великороссийского крестьянина, на его умный развязный вид, на его мужественные красивые черты, на его крепкое сложение, что в нем таится какая-нибудь другая сила, чем одно долготерпение и безответная выносливость?" - обращался А.И. Герцен к своим оппонентам. Держался человек более всего Своим Домом, Своей Семьей, своей общиной, как ни убоги они казались со стороны. "Счастлив путник, который после длинной и скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьем колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами видит наконец знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут перед ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку!" - записал Н.В. Гоголь.
У этих людей, так случалось, не оказывалось и подобия Дома. Бараки и балки, койка в общежитии, а то и вовсе "прописка по судну". Ни семьи, ни устойчивого положительного общения, ни "малой родины", обустроенной своим трудом. "Душа человека во сто крат тяжелее его тела, и нести ее один он не может", - гласит восточная мудрость. Не на что было опереться и не с кем было поделиться ношей этим людям.
Могут сказать: "А никто не заставлял, сами дорогу выбирали". Так-то оно так. Но коль дороги с волчьими ямами, кто-нибудь все равно попадется. Я обратил внимание на труд и жизнь людей, занятых на разного рода сезонных работах. Они формируют отмеченный тип человека, что называется, в рафинированном виде. Коллега С.А. Чернышев, психолог по профессии, пошел дальше - провел включенное наблюдение, потрудился на таких работах непосредственно, побывал с этим народом на их "хатах". Я полтора десятка лет прожил в разного рода общежитиях, не барышня, кое-что довелось видеть, о чем вспоминать не хочется. Однако его дневники я читать не смог - душа не принимала. Но в целом-то все сходилось: пройти такие "университеты труда и жизни" и не покалечиться душой и телом едва ли возможно. Север и Дальний Восток особенно богаты этими "университетами", потому и появился отмеченный тип человека здесь "прежде". Сотни тысяч людей оказываются здесь перед прямой угрозой деградации. А косвенно? Тут уж, как ни крути, - "повсеместно".
В 1986 году в роман-газете вышла повесть В. Распутина "Пожар". Она потрясла меня. Где-то в глубине души мне не хотелось верить, что наблюдаемое и изучаемое нами есть общее для России. Хотелось думать: может быть, когда-нибудь изживется, образуется. С.А. Чернышев даже полагал, что этих искалеченных людей можно как-то реанимировать. "Пожар" тут поставил точку. В. Распутин видит, как перепутывается добро и зло, как появляются от этого люди-мутанты, маргиналы, на его языке - "архаровцы". Это еще не бичи. Они еще работают. Как уж там работают, другое дело. И в наших исследованиях обнаруживался такой тип людей, согласных на любую работу с той, однако, установкой, чтобы потом как можно дольше не работать. Они агрессивны, или, скорее, пакостливы. Дальше их дорога в "бичи" или в тюрьму. Но катастрофа просматривается не только в судьбах этих людей. Еще держатся из последних сил те мужики, которые устояли под Сталинградом. Чем же живут? Вероятнее всего, преданием. Больше нечем. "Четыре подпорки у человека в жизни: дом с семьей, работа, люди, с кем вместе правишь праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом. И все четыре одна важней другой. Захромает какая - весь свет внаклон", - отмечает писатель, показывая, что давно хромают все четыре подпорки. У иных же их и вовсе не стало. И нечем стало держаться в этой жизни, смысл которой интуитивно стал пониматься в ее укороте. Да и как же может быть по-другому?
Читать дальше
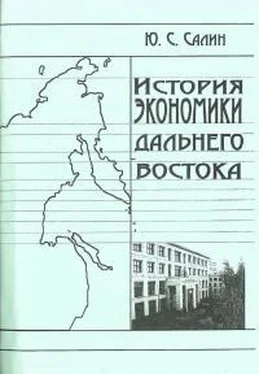
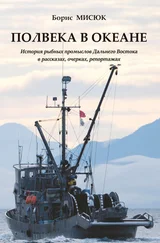
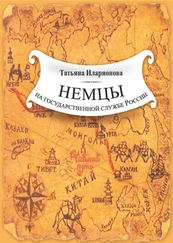
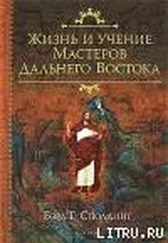
![Вольфганг Тарновский - Самураи [Рыцари Дальнего Востока]](/books/172057/volfgang-tarnovskij-samurai-rycari-dalnego-vost-thumb.webp)