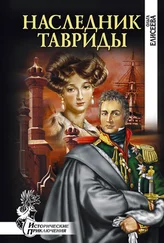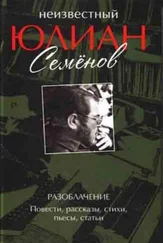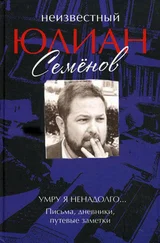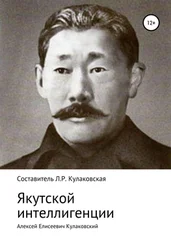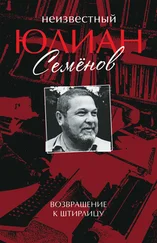Глава XIV
Латинская империя в Византии. Зависимость Херсонской фемы от Трапезунтской империи. Появление Татар в черноморских степях. Еп. Феодор Аланский. Сугдея под властью Татар. Торговые сношения Сугдеи с южными странами и Русью.
В начале XIII века Византия пережила великий переворот: трон греческих императоров заняли западные рыцари, и на развалинах греческой империи водворилась латинская. Побережье Черного моря теперь еще свободнее раскрылось для торговых оборотов итальянских республик, не связанных уже более в этих пределах условиями договора с императором. Тем не менее, Херсонская фема осталась греческой и вошла в удел трапезунских Комнинов. Свидетельство об этом сохранилось в одном агиографическом памятнике, а именно в слове Лазаря Трапезунтского о чудесах св. Евгения. В нем рассказан следующий эпизод. Наместник Иконийского султана Рейс Етума захватил в Снопе корабль, который вез император ежегодные подати от Херсона и Готских климатов. Корабль направлялся в Трапезунт, но буря загнала его в Синопу, находившуюся во владении султана, который затем послал вооруженные суда в Херсон и опустошил всю страну. [1]Это обстоятельство и послужило поводом к войне между Греками и Турками в 1223 году.
Слабость Трапезунтской империи и затруднительность сообщения по морю, по которому плавали теперь и Турки. Создавала возможность для Херсона высвободиться из-под зависимости преемников византийского императора. Если же этого не случилось, то, очевидно, таврические Греки ценили свое единение с империей и имели от этой связи какие-либо реальные выгоды и существенные интересы.
В то самое время, когда Трапезунтский император находился на войне с иконийским султаном, черноморские степи стали вновь ареной событий мирового значения: совершилось нашествие Татар. Предупредив возможность союза Алан, Половцев и Русских, Татары разбили их порознь, и несчастная битва на Калке была грозным предзнаменованием будущего. Татары проникли тогда же на Таврический полуостров, испытал их нашествие и город Сугдея. Краткая современная запись об этом событии, сохранившаяся в сугдейском синаксаре, дает только самый факт [2]Полнее говорит об этом один арабский источник. Он сообщает, что многие жители бежали от Татар в горы, куда спасали также и свое имущество, иные уехали морем на побережье Малой Азии [3]. Но в этот раз татарская волна быстро схлынула, и лишь в конце 30-х годов Татары опять появились и взяли в прочное обладание черноморские степи. Под 1238 годом помянуты в сугдейском синаксаре «безбожные» Татары и «мириарх Толактемир», под 1239 г. 26 декабря приход Татар. [4]Арабский источник дает более определенное сведение о том, что грабежу и разорению подверглись тогда же и другие города крымского побережья. Под 1249 годом сугдейский монах записал об «очищении» города от Татар и одновременно с тем о переписи населения, произведенной «севастом» – «и оказалось восемь тысяч триста человек» [5]. Население умело приспособляться к постигавшим его бедам. Оно сохранял свои святыни, поддерживало сношения с патриархом, имело сменявшихся на епископской кафедре пастырей, праздновало память местных святых, обновляло старые храмы, сооружало новые, созидало монастыри и киновии. Начавшееся еще с давних пор воздействие на варваров, сказавшееся уже во времена епископства св. Стефана, продолжалось и теперь: имена священников, монахов, мирян, сохранившихся в записях летописца и синаксаре, говорят о принадлежности их носителей к тюркской народности: Анна, дочь Ачипая (ум. 1273), Чолак (ум. 1279), монах Аладжи (ум. 1288), Кутлуц 9ум. 1307), Василий Туркман (ум. 1318), Токтемир (ум. 1320), Чимен, сын Ямгурче, родственник Оркачи (ум. 1344), Чохача (ум. 1379) и др. Иногда христианские имена сопровождаются указанием на татарскую национальность: Иоанн христианин татарин (ум. 1276), Параскева Татарка христианка (ум. 1275) и др.
О других городах побережья мы не имеем таких сведений, какие сохранил Сугдейский синаксар о жизни этого города от XII до XV века. Но в церковной письменности есть один памятник, заключающий в себе весьма интересные сведения о Херсоне и Боспоре от 1240 года, а именно: Послание епископа Аланского Феодора. [6]Этот пастырь, достигнув до пределов своей паствы в горах переднего Кавказа, рассказал в своем послании к патриарху историю своего путешествия и постигших его злоключений в пути и на месте. К сожалению, его сообщения, изложенные в риторическом тоне, обличающем в нем человека весьма образованного в духе того времени заключают в себе много неопределенного и загадочного.
Читать дальше