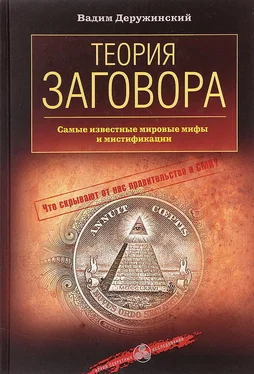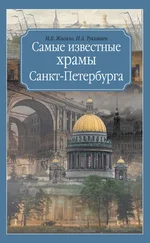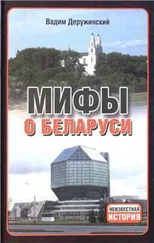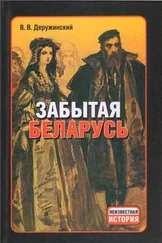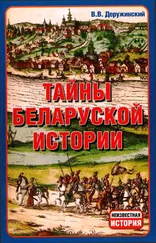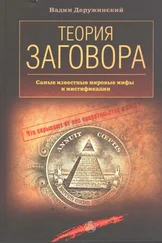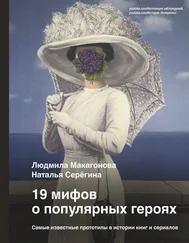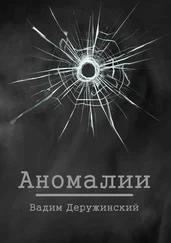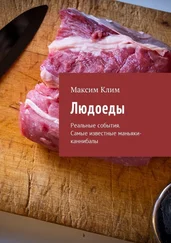В общем, Вильям Похлебкин просто отработал деньги своих хозяев, создав книгу из нелепого вранья. Ибо Россия к изобретению водки не имеет никакого отношения.
Водку изобрела не Московия, как и не Польша. Ибо сами корни слова «водка» именно белорусские, а не польские, не российские и не украинские. Похлебкин правильно указал единственное место возможного появления водки — как земли нынешней Беларуси, но затем это «забыл». Тут действительно был главный центр в Восточной Европе смолокурения, от которого технологически только полшага до винокурения. И само слово «водка» могло по явиться только в языке ВКЛ.
Увы, белорусы, находясь в полузачаточном состоянии к возвращению своей исторической памяти и национального лица, по объективным причинам не смогли участвовать в эпохальном споре России и Польши за право считаться хозяином приоритета для названия «водка». Хотя даже географически из-за сути этого спора было сразу понятно, что водка появилась где-то между Польшей и Россией. А что же находилось между ними? Белорусы тут и находились. Но стороной этого спора так и не стали до сих пор.
Не думаю, что белорусам надо тоже лезть в этот спор России и Польши за водку — у белорусов есть масса других проблем, куда как более важных, в том числе надо вообще вернуться к ощущению себя не созданными в СССР или в Польше, а продолжающими жить на земле прадедов. Что утеряно усилиями могущественных соседей.
Что же касается мифа о том, что «вторым» изобретателем водки (водки в 40 % алкоголя) стал Менделеев, то вот мнение российских скептиков:
В диссертации [21] Менделеев Д. И. «Рассуждение о соединении спирта с водою». // Соч.: В 25-и т. Т. 4. Л., 1937.
Дмитрий Иванович производил исследования в пределах 40 %— 100 % и определил наибольшую плотность при 46 % весовых (гл. 4 стр. 105), а о замерах в водочной области, т. е. 33–34 % весовых (40 % объемных), Менделеев писал так: «Я ограничился немногими определениями по той причине, что данные Гильпина в этом пространстве должны иметь меньшую погрешность» (стр. 132). Дело в том, что в Англии в XVIII веке искали рациональный способ расчета налогов на винокуренное производство, почему и производили исследования в этой области, вот Менделеев и использовал готовые данные Дж. Гильпина (G. Gilpin) 1792 года, и уточненные Гей-Люссаком (1824 г.).
Нет и никаких особенных свойств спирто-водяной смеси при заветной объемной концентрации 40 %. В 1887 г. Дмитрий Иванович опубликовал в «Journal of the Chemical Society» статью «Соединения этилового спирта с водой», где привел графики и таблицы, наглядно демонстрирующие, что в интервале концентраций от 17,6 до 46 % (по весу) никаких особенностей («пиков») в изменении свойств не наблюдается (стр. 414 того же изд. 1937 г.).
Нормативная крепость 40 % была установлена правительством России, исходя для оптовых поставок, чтобы обеспечить привычные 38 %, исходя из того, что при транспортировке и хранении спирт выдыхается и крепость понижается. См. например — Ильенков П. А. Курс химической технологии. СПб., 1851, стр. 791 — «по сортам водки, встречающейся в продаже»: полугар — крепостью 38 % по объему, пенное вино — 44,25 %, трехпробное — 47,4 % и двойной спирт — 74,7 % (употреблялся в медицине, фармакологии и парфюмерии)».
Вот ведро полугара и было единицей для налогообложения.
Как видим, и тут мы живем в плену мифов. Менделеев установил для потребителя оптимальную крепость водки в 38 %, отдавая 2 % на испарение при транспортировке от производителя, который должен был при этом давать изначально крепость водки в 40 %. Нет же — про 38 % все забыли и сегодня считают водкой сорока-процентный раствор спирта в воде. Но сама доставка до потребителя уже иная, и эти 2 % алкоголя при этом давно не испаряются. Никто об этом не помнит, а все заводы СНГ делают водку с 40 % алкоголя. Хотя Менделеев установил для продажи и для нас, потребителей, оптимальную норму алкоголя в водке в 38 %.
Куда ни копни — повсюду и везде одни навязанные нам усердно кем-то заблуждения и мифы.
Это и есть Теория заговора. Обманывать большинство — для эгоистичных интересов узкого меньшинства. Надеюсь, читатель этой книги убедился, что Теория заговора — вовсе не паранойя или конспиративизм как менталитет, как считал почетный профессор Пенсильванского университета Джордж Энтин в работе «Теории заговоров и конспиративистский менталитет». А это адекватное восприятие окружающего нас мира. Не верить никому— вот, не ошибусь, девиз современного скептического человека, каковым я себя считаю.
Читать дальше