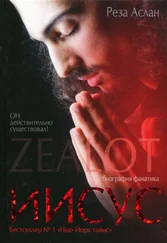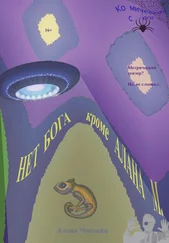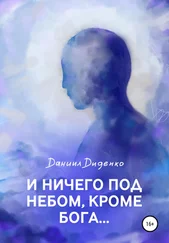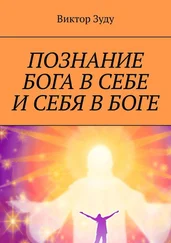К IX и Х вв. в рамках этого спора о детерминизме и свободной воле выделились два направления мысли: «рационалистическая позиция», наиболее четко представленная мутазилитами, и «традиционалистская», преобладающая среди ашаритов. Улемы мутазилитов утверждали, что Бог, будучи принципиально неопределимым, тем не менее существует в границах человеческого разума. Оспаривая представление о том, что религиозная истина может быть достигнута только через божественное откровение, мутазилиты обнародовали доктрину, согласно которой все теологические аргументы должны придерживаться принципов рационального мышления. Даже толкование Корана и предания, или Сунна, о Пророке были, по мнению рационалистов, подчинены человеческому разуму. Как утверждал Абд аль-Джаббар (ум. 1024), самый влиятельный богослов-мутазилит своего времени, «правдивость» Божьего слова не может основываться исключительно на божественном откровении, ибо это замкнутый круг причинно-следственных связей.
Испанский философ и врач Ибн Рушд (1126–1198), более известный на Западе как Аверроэс, свел концепцию аль-Джаббара к теории знания «двух истин», где религия и философия противопоставлены друг другу. Согласно Ибн Рушду, религия упрощает истину для масс, прибегая к легко понимаемым знакам и символам, несмотря на доктринальные противоречия и логические несоответствия, которые неизбежно вытекают из образования и жесткой интерпретации догмы. Но философия – истина сама по себе; ее цель – просто выразить действительность через способности человеческого разума.
Именно эта приверженность, которую Биньямин Абрахамов называет «подавляющей силой разума над откровением», позволила современным ученым назвать мутазилитов первыми богословами в исламе. И именно в отношении такого акцента на первенстве человеческого разума улемы-традиционалисты из числа ашаритов выступают категорически против.
Ашариты утверждали, что человеческий разум, хотя, безусловно, важен, тем не менее должен подчиняться Корану и Сунне Пророка. Если бы религиозные знания могли быть получены только посредством разума, как полагали мутазилиты, то не было бы необходимости в пророках и откровениях; результатом стала бы путаница теологического разнообразия, которая позволила бы людям следовать собственным желаниям, а не воле Господа. Ашариты считали, что разум неустойчив и изменчив, в то время как пророческие предания и тексты священных писаний – в особенности в толковании их улемами-традиционалистами – были стабильными и зафиксированными.
Что касается вопроса о свободной воле, богословы-рационалисты приняли и расширили мнение о том, что человечество совершенно свободно в своих действиях на стороне добра или зла, и это означает, что ответственность за спасение полностью лежит на верующем. В конце концов, было бы нерационально для Бога вести себя так несправедливо, предоставляя человечеству волю выбирать, быть верующим или нет, а потом награждать одних и наказывать других. Многие традиционалисты отклонили этот аргумент на том основании, что такая логика ставит поведение Бога в рамки рационального, а следовательно, человеческого рассуждения. Это, по мнению ашаритов, ширк. Всемогущий Создатель Бог должен быть прародителем «добра и зла, малого и большого, внешнего и внутреннего, сладкого и горького, приятного и неприятного, хорошего и плохого, передового и последнего», цитируя вероучение ханбалитов, бесспорно самой влиятельной из всех исламских школ мысли.
Рационалисты и традиционалисты не сошлись во мнениях и относительно атрибутов Бога. Оба лагеря считали, что Бог – вечен и уникален, и оба неохотно признавали антропоморфное описание Бога, представленное в Коране. Однако большинство рационалистов толковали эти описания как исключительно образные выражения, предназначенные для поэтических целей, тогда как большинство традиционалистов отвергали все символические интерпретации откровения, заявляя, что кораническое описание рук и лица Господа, хотя и нельзя уподоблять словесному изображению рук и лица человека, все же следует воспринимать буквально.
У Бога есть лицо, утверждал Абуль Хасан аль-Ашари (873–935), основатель школы ашаритов, потому что так гласит Коран («и остается лик твоего Господа со славой и достоинством»; 55:27), и мы не должны задаваться вопросом почему. В самом деле, аль-Ашари часто отвечал на претензии, связанные с рациональными несоответствиями и внутренними противоречиями, вызванными жестким толкованием религиозной доктрины, придерживаясь формулы била кайфа , что можно свободно перевести как «не спрашивайте почему».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
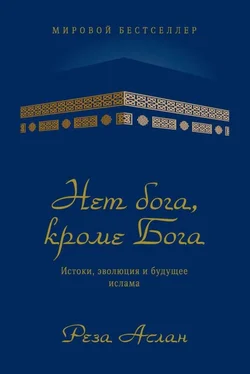
![Ясмина Реза - Бог резни [=Бог войны]](/books/63616/yasmina-reza-bog-rezni-bog-vojny-thumb.webp)
![Ясмина Реза - Бог войны [=Бог резни]](/books/63617/yasmina-reza-bog-vojny-bog-rezni-thumb.webp)