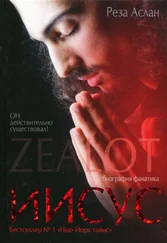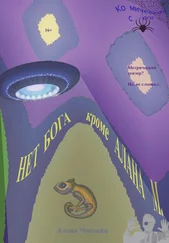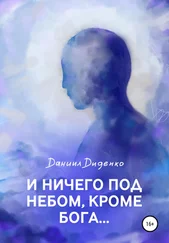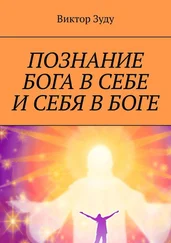Бесспорно, это не новое явление. Несмотря на тот факт, что покрытие головы – это обычай, который существует в бесчисленном количестве культур на протяжении тысяч лет как среди мужчин, так и среди женщин, в глазах многих на Западе вуаль долгое время рассматривалась как наиболее выдающаяся эмблема «инаковости» ислама. Европейцы, в частности, были одержимы вуалью еще с момента эротических путешествий писателей-ориенталистов, таких как Густав Флобер и сэр Ричард Бертон, которые создали фетиш из образа мусульманской женщины как восточной femme fatale [11] Роковая женщина ( фр. ).
. Этот образ получил новую жизнь в работах европейских колониалистов, таких как Альфред, лорд Кромер, британский генеральный консул в Египте, для которого хиджаб был символом «деградации женщин» и окончательным доказательством того, что «ислам как социальная система потерпел абсолютное поражение». Примечательно, что джентльмен, представляющий колониальную страну, был при этом основателем Мужской лиги противостояния женскому движению суфражисток в Англии. Кромер не интересовался тяжелым положением мусульманских женщин как таковым; хиджаб для него был иконой «отсталости ислама» и наиболее заметным оправданием «цивилизаторской миссии» Европы на Ближнем Востоке.
В современном мире хиджаб стал символом не только овеществления мусульманской женщины, но также широкой пропасти в ценностях и нравах, которая, как настаивают многие, разделяет ислам и Запад. Отсюда недавно вступившие в силу законы, запрещающие мусульманкам ношение отдельных видов хиджаба во Франции и других странах Европы. Сторонники таких запретов утверждают, что хиджаб – это оскорбление принципов Просвещения, на которых основана Европа. Они заявляют, что хиджаб по определению является проклятием концепции освобождения женщины. Как сказал французский президент Николя Саркози, подписывая соответствующий закон: «В нашей стране мы не можем считаться с тем, чтобы женщины были заключенными за завесой, чтобы они были отрезаны от всех проявлений общественной жизни, лишены идентичности». Конечно, в центре его утверждения – абсолютно женоненавистническое убеждение в том, что ни одна мусульманка добровольно не выберет ношение хиджаба, что ее заставляют его носить (муж, или отец, или социальные ограничения, установленные ее религией), что фактически мусульманки не способны сами решать, что они должны носить, а что – нет, поэтому именно государство должно решить за них.
Это не значит, как полагают столь многие либеральные мусульманские реформаторы, что хиджаб в действительности – символ расширения прав мусульманских женщин. Это аргумент, ставший известным благодаря выдающемуся иранскому политическому философу Али Шариати (1933–1977) и его знаменитой книге «Фатима – дочь Пророка». Для Шариати и других людей, разделяющих его точку зрения, хиджаб – это не символ угнетения женщин, а скорее знак усиленного противодействия западному женскому образу. Но, какой бы привлекательной эта идея ни была, она по-прежнему трагически грешит недостатком, связанным с тем, что Шариати описывает нечто, о чем не имеет никакого представления.
Правда заключается в том, что традиционный образ закрытой чадрой мусульманской женщины как защищенной и послушной сексуальной собственности своего мужа настолько же обманчивый и глупый, как и постмодернистское изображение вуали как эмблемы расширения прав и женской свободы от культурной гегемонии Запада. Вуаль может быть и тем и другим или ничем из этого, но решение зависит исключительно от самих мусульманок. Каким бы ни был выбор в отношении одежды, это выбор самой женщины, и только ее. Ни мужчина, ни государство не определяют правильную «женскость» в исламе. Те, кто относится к мусульманке не как к личности, а как к символу исламского целомудрия или светского либерализма, повинны в том же грехе – в овеществлении женщины.
Это, по сути, служит основой так называемого мусульманского женского движения, которое зиждется на идее о том, что именно общество, где доминируют мужчины, а не ислам, несет ответственность за подавление женщин в столь многих государствах с преобладающим мусульманским населением. По этой причине мусульманские феминистки по всему миру выступают за возвращение к тем основам общества, которые Мухаммад изначально завещал своим последователям. Несмотря на различия в культуре, национальности и убеждениях, они считают, что тот урок, который был получен от Пророка, те беспрецедентные права и привилегии, которыми он наделил женщин, доказывают, что ислам прежде всего – религия равенства. Медина в представлении феминисток – это общество, в котором Мухаммад назначал женщин наподобие Умм Варака духовными руководителями уммы; где самому Пророку публично делали замечания его жены; где женщины молились и сражались наравне с мужчинами; где женщины, как Аиша и Умм Салама, действовали не только как религиозные, но и как политические – а в некоторых случаях и как военные – лидеры; и где призыв к молитве, раздававшийся с крыши дома Мухаммада, собирал мужчин и женщин вместе, без разделения , и они благословлялись как представители единой общины.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
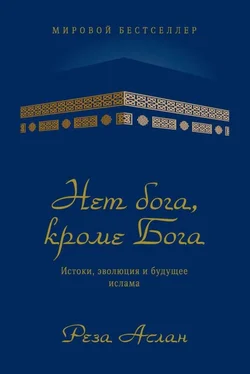
![Ясмина Реза - Бог резни [=Бог войны]](/books/63616/yasmina-reza-bog-rezni-bog-vojny-thumb.webp)
![Ясмина Реза - Бог войны [=Бог резни]](/books/63617/yasmina-reza-bog-vojny-bog-rezni-thumb.webp)