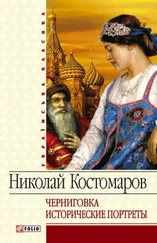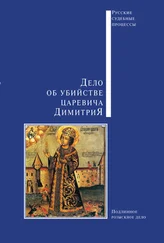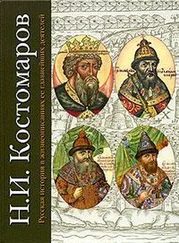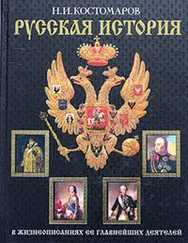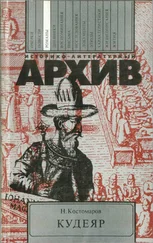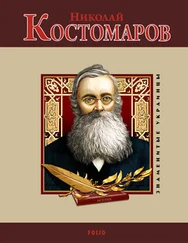Не говоримъ уже о томъ, что мы не встрѣчаемъ ни показанія царицы, ни осмотра тѣла Димитріева. На этотъ счетъ говорятъ: да вѣдь дѣло не полное, мы имѣемъ только отрывокъ. Правда, но этотъ отрывокъ начинается пріѣздомъ въ Угличъ слѣдователей, надлежало бы тотчасъ и быть осмотру. Лѣтописецъ прямо и говоритъ, что онъ совершился тотчасъ по пріѣздѣ Шуйскаго съ товарищи: «и осмотри тѣла праведнаго заклана». Иначе и быть не могло. Отчего же этого осмотра нѣтъ въ слѣдственномъ дѣлѣ? Конечно оттого, что этотъ осмотръ давалъ выводы, противные заранѣе рѣшенному результату слѣдственнаго дѣла, который долженъ былъ состоять въ томъ, чтобы изо всего оказывалось, что царевичъ зарѣзался въ припадкѣ болѣзни. Напротивъ, раны на тѣлѣ Димитрія, вѣроятно, очень явно показывали, что онъ былъ умерщвленъ и потому-то въ день его смерти угличане, видя тѣло только-что испустившаго духъ зарѣзаннаго ребенка, съ полною увѣренностію бросились бить тѣхъ, которыхъ считали убійцами.
Судя по всѣмъ извѣстіямъ того времени и по соображеніямъ обстоятельствъ, предшествовавшихъ этому событію, сопровождавшихъ его и послѣдовавшихъ за нимъ, кажется, едва ли можно сомнѣваться въ истинѣ того факта, что Димитрій царевичъ былъ зарѣзанъ. Правительство того времени, когда совершено было убійство, имѣло свои поводы стараться увѣрить всѣхъ, что царевичъ зарѣзался самъ. Если бы убійство случилось не только по волѣ, но противъ воли Бориса; тогда Борису должно было представляться лучшимъ средствомъ избавить себя отъ всякаго подозрѣнія — поставить дѣло такъ, какъ будто царевичъ убилъ себя самъ.
Въ какой степени Борисъ участвовалъ въ этомъ фактѣ — мы едва ли въ силахъ рѣшить положительно. Одно только считаемъ вѣроятнымъ, что Борисъ, какъ умный и осторожный человѣкъ, не давалъ прямаго повелѣнія на убійство тѣмъ лицамъ, которыхъ онъ отправилъ въ Угличъ наблюдать за царевичемъ и его роднею, и которыя умертвили царевича. Быть можетъ, до нихъ доходили намеки, изъ которыхъ они могли догадаться, что Борисъ этого отъ нихъ желаетъ; быть можетъ даже, они и по собственному соображенію рѣшились на убійство, достаточно убѣждаясь, что это дѣло угодно будетъ правителю и полезно государству. Могла ихъ къ этому подстрекать и вражда, возникшая у нихъ съ Нагими. Во всякомъ случаѣ, они совершили то, что́ было въ видахъ Бориса: безъ сомнѣнія, для Бориса казалось лучше, чтобъ Димитрія не было на свѣтѣ. Раздраженное чувство матери, лишившейся такимъ образомъ сына, не дало убійцамъ совершить своего дѣла такъ, чтобъ и имъ послѣ того пришлось пожить въ добрѣ, и Бориса не подвергать подозрѣнію. Убійцы получили за свое злодѣяніе кару отъ народа, смерть царевича осталась безъ свидѣтелей, за неимѣніемъ ихъ — набрали и подставили такихъ, которые вовсе ничего не видали; но всѣ жители Углича знали истину, видѣвши тѣло убитаго, вполнѣ остались убѣждены, что царевичъ не зарѣзался, а зарѣзанъ. Жестоко былъ наказанъ Угличъ за это убѣжденіе; много было казненныхъ, еще болѣе сосланныхъ; угличанъ, видѣвшихъ своими глазами зарѣзаннаго Димитрія, не оставалось, но за то повсюду на Руси шопотомъ говорили, что царевичъ вовсе не убилъ себя самъ, а былъ зарѣзанъ. Не только русскіе, — иностранцы разносили этотъ слухъ за предѣлами московской державы. Слѣдственное дѣло съ его измышленіями не избавило Бориса отъ подозрѣнія.
Это подозрѣніе, однако, не помѣшало Борису по смерти Ѳедора взойти на престолъ, при посредствѣ козней, расположенія къ себѣ духовныхъ и подбора партіи въ свою пользу. Борисъ не былъ человѣкъ злой: дѣлать другимъ зло для него не составляло удовольствія; ни казни, ни крови не любилъ онъ. Борисъ даже склоненъ дѣлать добро, но это былъ человѣкъ изъ тѣхъ недурныхъ людей, которымъ всегда своя сорочка къ тѣлу ближе и которые добры до тѣхъ только поръ, пока можно дѣлать добро безъ ущерба для себя: при малѣйшей опасности они думаютъ уже только о себѣ и не останавливаются ни предъ какимъ зломъ. Отъ этого, Борисъ въ первые годы своего царствованія былъ добрымъ государемъ, и былъ бы можетъ быть долго такимъ же, еслибъ несчастное углицкое дѣло не дало о себѣ знать. Воспоминаніе объ немъ облеклось таинственностью, которая породила легенду, — что Димитрій не зарѣзался и не зарѣзанъ, а спасся отъ убійцъ и гдѣ-то живетъ. Этой легендѣ естественно было въ народномъ воображеніи родиться именно при той двойственности, какая существовала въ представленіяхъ объ углицкомъ событіи. Правительство говорило, что Димитрій самъ убилъ себя; въ народѣ сохранилось представленіе, что Димитрій зарѣзанъ; въ противоположности двухъ различныхъ представленій образовалось третье представленіе, наиболѣе щекотавшее воображеніе. Борисъ, услышавши объ этомъ, хотѣлъ найти виновниковъ такого толка, уже болѣе опаснаго для него, чѣмъ были толки о томъ, что царевичъ зарѣзанъ, но найти творцовъ этого слуха онъ былъ не въ состояніи, потому что ихъ не было — была только мысль, носившаяся какъ по вѣтру въ народѣ. Борисъ сдѣлался тираномъ, возбудилъ противъ себя ненависть, а съ ненавистью возрастала увѣренность въ существованіи Димитрія и явилась надежда на его появленіе.
Читать дальше