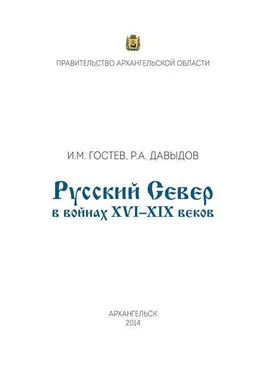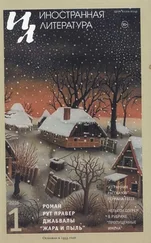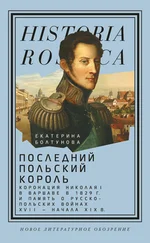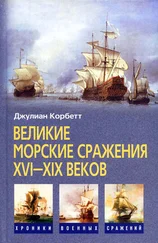Учитывая тот интерес, который проявляли иностранцы к Мурманскому побережью, русские власти держали в Кольском остроге довольно значительный гарнизон. Так, в 1647–1648 гг. здесь находилось 5 сотников и около 500 стрельцов, а также отряд пушкарей из 9 человек. В 1680-х гг. артиллерийское вооружение Кольского острога состояло из 54 пушек, из которых 39 располагались на башнях и 15 хранились в «зелейном погребе» [725]. В эти годы в Коле был построен Воскресенский собор — один из шедевров русского деревянного зодчества.
Девятнадцатиглавый собор [726]высотой до 37 м был грандиозен, он более чем на полтора века стал главной достопримечательностью Колы и предметом особой гордости его жителей [727]. Имя его строителя не сохранилось, обстоятельства строительства обросли народными легендами. Одну из них изложил Сергей Васильевич Максимов (1831–1901) — известный путешественник и писатель, побывавший в Коле в 1856 г. еще совсем молодым человеком. Согласно легенде, великий мастер, завершал работу со слезами и в глубокой печали, а закончив ее, забросил свой топор с высокого берега в р. Тулому, вероятно, решив, что он выполнил свое главное предназначение в жизни [728].
На протяжении XVI–XVIII в. башни, стены и постройки Кольского острога неоднократно перестраивались. Менялась численность гарнизона и его вооружение. Значительный объем работ был выполнен в эпоху императора Петра I. Представление о вооружении Кольского острога в эпоху Петра I дают материалы ревизии, проведенной в 1729 г., призванной оценить результаты повреждений, нанесенных острогу пожаром в 1726 г. Ревизия показала, что, помимо «горелых», в крепости было 37 исправных пушек разных калибров, к которым имелось 5905 ядер, а также запасы пороха — 679 пудов, 10 пудов фитиля, 126 пудов свинца, 80 пудов свинцовых пуль. Гарнизон, состоящий тогда из 470 человек, имел также 288 мушкетов, 429 фузей, 295 шпаг, 35 копий и пр.
Основу благосостояния жителей Колы составляли морские промыслы и торговля, причем в XVI–XVII вв. морские промыслы были в основном «вольными», то есть доступными для всех. Реализация продукции промыслов также не имела существенных ограничений. Уловы могли продаваться скупщикам в районах промыслов — как русским, так и иностранным, развозиться по городам и селениям Белого моря для продажи непосредственным потребителям. Конец «вольным» промыслам на Мурмане положил Петр I, официально введя на Мурмане практику монопольной скупки продукции промыслов. По мнению советских историков, такая система организации хозяйства не приносила заметных выгод казне, зато обогащала царских любимцев — А. Д. Меншикова. П. П. Шафирова и др. «Монополисты нисколько не заботились о развитии промыслов — улучшении техники, строительстве кораблей и предприятий, освоении новых районов промысла, — писал И. Ф. Ушаков. — Все они, как пиявки, приставшие к телу народа, сосали его кровь, паразитировали, обирая трудящихся» [729].
Последним из монополистов, контролировавших морские промыслы на Мурмане, был граф Петр Иванович Шувалов. Получив монополию на скупку продукции сального промысла в 1748 г. и трескового промысла в 1750 г., он для стимулирования их начал выдавать кредиты поморам-промышленникам. Это оживило экономику края, привлекло в Колу на постоянное жительство новых людей, в том числе и из Архангельска. Но в 1762 г. П. И. Шафиров умер, его сын Андрей Петрович Шафиров прекратил практику кредитования поморов. Это совпало с резким ухудшением промысловой обстановки в те годы и привело к упадку промыслов, а также к миграции населения обратно из Колы [730].
Вот что писал о временах «цветущего состояния Колы» немало попутешествовавший в 1770-х гг., в том числе и по Европейскому Северу, Николай Яковлевич Озерецковский — будущий академик:
«Сие состояние было во времена графа Петра Ивановича Шувалова, когда он на откупу содержал все промыслы на Северном океане производимые, и когда в Колу за ворванным салом, за тюленьими и моржовыми кожами, за трескою и проч. приезжали иностранные корабли. Тогда Кола была многолюдной город, в котором все к содержанию потребное без труда иметь было можно; потому что иностранные привозили туда на судах разные товары, которые привлекали в Колу архангелогородцев и других поморцев с берегов Белого моря, так же с разными российскими товарами, а наипаче с хлебом; и коляне, упражняясь неусыпно в морских промыслах, всегда имели столько добычи, что могли ею безбедно себя содержать, продавая за деньги и променивая оную на хлеб. Да и самые поверенные графа Шувалова, в Коле тогда находившиеся, скупали у колян их промыслы, задавали вперед им деньги и ссужали хлебом, что не только удерживало поселившихся в Коле пришельцев, но еще больше их туда привлекало. Когда же откуп графа Шувалова кончился, то и перестали приходить в Колу иностранные корабли, перестали ездить туда и наши архангелогородские суда; Кола тотчас почувствовала во всем недостаток, и жители ее на ладьях, на шняках и на лодках целыми семьями поплыли в город Архангельской, чтоб не умереть в Коле с голоду» [731].
Читать дальше