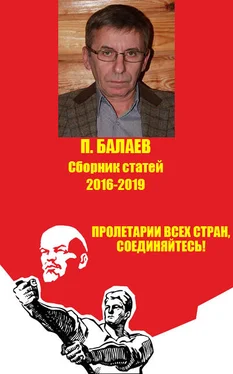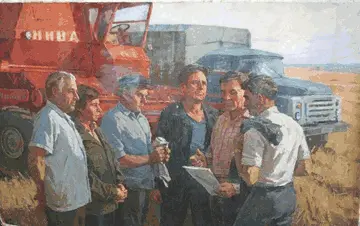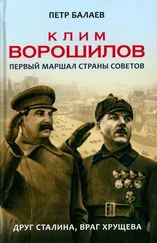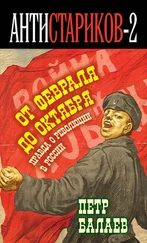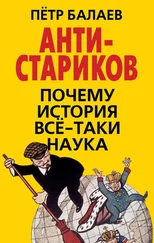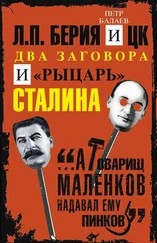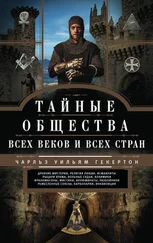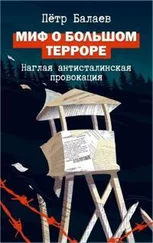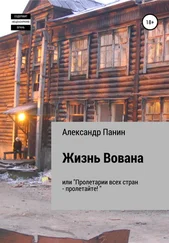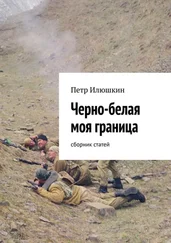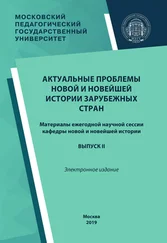При Ленине проблема была другая. Психология народа. Большевики знали, что декретом психологию людей поменять нельзя, поэтому особо не горели желанием отобрать у капиталистов средства производства. Вначале речь у них шла только о рабочем контроле. Они собирались двигаться к общенародной собственности постепенно. Но ситуация с сопротивлением буржуазии всё поменяла. Пришлось провести национализацию.
И сразу начались проблемы — народ не понимал, что теперь завод принадлежит ему, а не дяде. Начался бардак. Пока большая часть рабочих была из числа тех, кто работал при капиталисте и был капиталистом отмуштрован, ситуация была еще более-менее терпимая. Но когда пошла к станкам молодежь… «Как закалялась сталь» читайте, там это описано в красках.
Ленин бился с этим бардаком, как рыба об лёд. Внимательно высматривал малейшие признаки осознания рабочими своего нового положения собственников: субботники, соревнование… И лично занимался пропагандой этих инициатив. Использовал любую возможность объяснить людям, что теперь они сами хозяева заводов. Убеждал их и вести себя по-хозяйски. Понятно, что бросить средства производства без хозяина, т. е. оставить их в положении, когда они отданы рабочим, но рабочие их не хотят по психологическим причинам взять себе в собственность — этого делать нельзя было. Это к гибели страны привело бы. Поэтому заводы перешли в государственную собственность. Не надо отождествлять государственную и общенародную собственность. Не всегда они синонимы. И Владимир Ильич объявил о государственном капитализме, как о переходной стадии к социализму. Вот на госкапитализме более-менее выкарабкались, сумели восстановить промышленность до уровня 1913 года. Понятно, не столько на росте производительности, сколько на том, что теперь из промышленности не выводились средства в виде прибыли на развлечения буржуев в парижах. А большевики тем временем искали и искали способ убедить народ взять в собственность эти фабрики-заводы.
В сельском хозяйстве ситуация была еще более сложной. Если завод государство могло взять под свой контроль, рабочие все-таки работали более-менее компактными группами, бригадира поставили контролировать — и проблема решена, то с крестьянами ситуация иная, к каждому пахарю и пастуху надсмотрщика не приставишь. Да и рабочие все-таки привыкли к труду коллективному, а крестьянин работяга-индивидуалист. Поэтому получилось только создать немногочисленные государственные сельскохозяйственные предприятия — совхозы, на сколько предприятий хватило управленческих кадров и сознательных крестьян — столько и создали.
Вот к началу индустриализации страна и застыла в положении, когда промышленность находилась в государственной собственности, а деревня — море единоличников с островками государственных предприятий — совхозов.
И тут большевики, Сталин с соратниками, нашли революционное решение проблемы. Решение проблемы было и революционным, и гениально простым. Сталинцы отказались от… зарплаты. Собственник должен же получать не зарплату, а доход? Ну, большевики и решили: получайте доход.
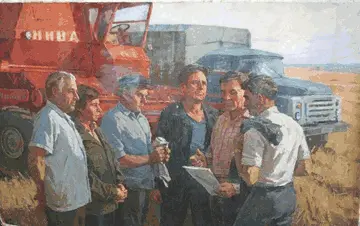
Вот именно это и ломало психологию бывшего крестьянина-единоличника, которого уговорами затащили в колхоз. Не сразу, естественно, произошла ломка. Первый год коллективизации крестьяне почти по всей стране вели себя как рабочие совхозов и колхозов брежневской поры — без пинка не шевелились. Но вот когда они получили на свои трудодни тот доход, который заработали саботируя работу и остались голодными, то в мозгах у них быстро всё прояснилось. Начался бурный рост производительности труда, да еще и механизация добавилась. Кстати, никогда Сталин о зарплате колхозников не говорил, всегда звучало «доходы колхозников». Понимаете?
В промышленности всё случилось даже позднее, чем в сельском хозяйстве, как это не удивительно на первый взгляд. Просто в небольшом коллективе, каким являлся колхоз, да еще когда происходило наглядное деление натурального продукта прямо на глазах работников — осознание того, что ты получаешь доход, а не зарплату, приходит легче. Да еще крестьянин всегда жил на доходе, ему в кассе зарплату никогда не выдавали, поэтому он врос очень быстро в общественную собственность. И заводом управляла назначаемая администрация, а колхозом — выборная. Колхозник сразу начинал себя чувствовать совладельцем, а рабочий так и продолжал смотреть на начальство по старинке.
Читать дальше