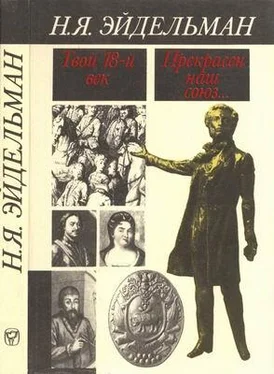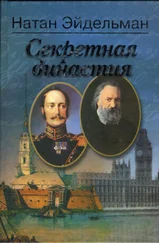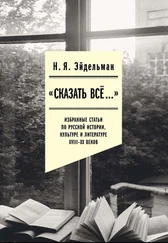«Незаметно,— продолжает декабрист,— коснулись опять подозрений насчёт общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: „Верно, всё это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать“. Потом, успокоившись, продолжал: „Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям“. Молча, я крепко расцеловал его, мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть».
Место, тысячекратно цитированное и всё же во многом загадочное.
«Коснулись опять» — то есть через пять-шесть лет после впервые высказанного поэтом подозрения, что друг секретничает. И сейчас Пушкин начал разговор или скорее всего бросил намёк, естественно вытекавший из обсуждения должности надворного судьи.
Пущин на этот раз уже не может отмолчаться, отшутиться, и логика беседы представляется следующей. Пушкин завёл разговор (намекнул, высказал подозрение) насчёт потаённой деятельности одного Пущина («гордился мною и за меня»). Пущин же отвечает — «не я один». Тут и оправдание прежнего молчания, и специфически пущинская сдержанность.
Следует бурная реакция Пушкина, который «вскочил», «вскрикнул» и только потом, «успокоившись, продолжал».
Фразы: Пушкина — «я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить…», Пущина — «молча, я крепко расцеловал его», «обоим нужно было вздохнуть» — эти слова передают предельно напряжённую ситуацию полупризнания: нельзя сказать, но нельзя и скрыть, и если бы только это! Члену тайного общества достаточно просто промолчать, загадочно улыбнуться, но «крепко расцеловал» — это любовь, бережность, сожаление, неотвратимость разных путей (пусть и не столь разных, как, например, у Пушкина и Горчакова, где, «вступая в жизнь, мы рано разошлись…»).
Впрочем, «острый пик» михайловской беседы миновал. Разрядка. Друзья «обнялись и пошли ходить…».
«Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи… Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой, начались тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за неё. Незаметно полетела в потолок и другая пробка, попотчевали искромётным няню, а всех других — хозяйской наливкой. Всё домашнее население несколько развеселилось, кругом нас стало пошумнее, праздновали наше свидание.
Я привёз Пушкину в подарок „Горе от ума“, он был очень доволен этой тогда рукописной комедией, до того ему вовсе почти незнакомой. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать её вслух, но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частию явились в печати…»
С политических высот воспоминание уходит к минутам весёлости, дружбы, озорства, радости, тостов.
В тот зимний день 11 января 1825 года двое молодых весёлых людей балагурят со швеями, а потом пьют за неё. Конечно, не за женщину, как думали некоторые исследователи, а за свободу: подчёркнутые Пущиным слова обращены к определённым понятиям. «Она», «за неё» — были особенным «паролем» в речах Пущина и близких к нему людей.
Известный общественный деятель, собиратель русских сказок А. Н. Афанасьев запишет в своём дневнике (август 1857 г.) следующие слова о недавно умершем декабристе И. Д. Якушкине: «Жаль его: в этом старике так много было юношеского, честного, благородного и прекрасного… Ещё помню, с каким одушевлением предлагал он тост за свою красавицу, то есть за русскую свободу, с какою верою повторял стихи Пушкина: „Товарищ, верь, взойдёт она, заря пленительного счастья…“»
И в Михайловском, и в сибирской ссылке, и после — стоило произнести «за неё!» — и всё было понятно: «за неё» — это лицейская, декабристская, пушкинская «красавица-свобода». «За неё» — значит, оба собеседника сошлись в общности идеалов, целей: Свобода (о средствах её завоевания и других подробностях речь не идёт).
Тост за свободу 11 января 1825 года, потом чтение запрещённого «Горя от ума» — это нормальная для той поры ситуация: одна из примет той широкой общественной волны, которую составляло всё мыслящее, передовое, живое, яркое тогдашней России…
Отметим ещё раз и естественную смену дружеского настроения: только что было напряжение, противоборство,— и вот снова единство, согласие, радость второго лицейского дня (пушкинское — «ты в день его Лицея превратил…»). Ситуация доброжелательства, свободы, раскованности. Внезапно, однако, вторгается грубая действительность — появляется святогорский игумен Иона, наблюдению которого «поручен» Пушкин. С трудом спровадив незваного гостя, вернули вольную беседу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу