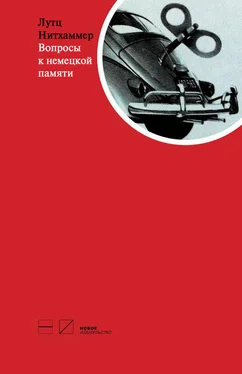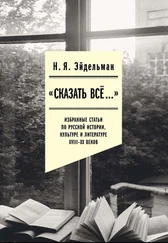Цитата из Энгельса, которую я здесь привел ради ассоциаций с конститутивными процессами, знаменита в истории теорий не своим содержанием, а вводными замечаниями насчет «последней инстанции» в истории и ее двоякого характера, охватывающего производство и воспроизводство непосредственной жизни.
Если эти утверждения перенести на те воспоминания о социализации, которые освещаются и обсуждаются в настоящей статье, то они разделятся на две части: опыт производства и воспроизводства непосредственной жизни оказывается в самом деле элементарным и нормативным, однако не определяющим в конечном счете элементом.
Опыт, связанный с простейшими культурно-антропологическими и социально-экономическими ситуациями, оказывает наиболее сильное формирующее воздействие на непосредственную жизнь. В данном случае он словно бы висит в пустом пространстве: в конце фашизма и войны индивиды бегут от «неестественной» и утратившей эффективность политической усложненности жизненных условий в регрессивную фантазию, представляющую семью и родину как естественное пристанище, которое обещает защищенность, простоту и солидарность, где можно укрыться от элементарных угроз и уменьшить навязанную социально-политическую сложность поведенческих связей. Но эта детская надежда на семью не сбывается – особенно у младшего поколения – в условиях перенаселенных квартир, клановых структур, культурной гегемонии ориентированного в прошлое родительского поколения, коллапса традиционных этических представлений, а также проблем, вызванных непривычными и многообразными требованиями воспроизводственной сферы. Возникает разочарование, и не предлагается никаких альтернатив этой повседневной реальности. Расширенные или поврежденные семейные конфигурации приходится заменять иной – однако сохраняющей верность своим семейным принципам – целью; эта цель – малая семья, в которой сексуальные партнеры и представители разных поколений могут опираться друг на друга в псевдоестественной, архетипической простоте; условия воспроизводства в малой семье выглядят приемлемыми благодаря росту потребления, и она кажется тем частным пространством, которое защитит человека от политики и от общества. В 1950-е годы немцы работали над тем, чтобы все же привести к успешной реализации свои фантазии 1945 года о бегстве из общественной действительности в «естественный порядок».
На уровне производства и обмена в период кризиса, парализовавшего немецкое общество после войны, способность индивида к достижению собственных целей в принципе вознаграждалась на нелегальном, но необходимом черном рынке. Охватывавшая прежде все общество система обеспечения и справедливости, которая в условиях государственного рационирования и распределения символизировала одновременно и национал-социалистическое прошлое, и социалистическое будущее, превратилась в систему дефицитарного распределения и обесценилась. Поэтому весь практический интерес сосредоточился на второй экономике – сфере нерегулируемого, социально-дарвинистского, авантюристического рынка, на который неизбежно выходили в послевоенные годы все, кто хотел чего-то достичь. У рурских рабочих были на этом рынке не такие уж плохие позиции, как можно было бы подумать, ведь они – особенно те, кто были связаны с шахтами, – пользовались натуральной оплатой труда, которая предоставляла им обменный фонд товаров, а через производственные советы работники облекали процессы обмена в коллективную, привязанную к интересам предприятия форму. Благодаря этому их возможности на рынке далеко превосходили возможности отдельной семьи. Поэтому уроки повседневной жизни сводились к обесцениванию социалистической альтернативы, принятию рынка и оптимизации собственной позиции на нем через организованные в рамках предприятий объединения по принципу клиентелы. Это был подготовительный класс школы профсоюзов, которые были сведены к роли тарифоустанавливающих машин в условиях капиталистически переустроенного рынка труда.
Обе системы ориентации – и семья, и рынок, сделавшийся приемлемым благодаря коллективистским стратегиям, – оказывали свое действие не сразу: во-первых, для них сначала необходимо было создать пространство; во-вторых, их структурная гегемония должна была еще утвердиться в ситуации, которая потенциально определялась двоевластием. Таким образом, вместе с темой власти в зону нашего внимания попадает вторичный характер описывавшихся до сих пор «повседневных» ситуаций научения. В ожидании того, что «недочеловек», ставший теперь победителем, станет насиловать, проявляется фрагмент скрытого расистского базового консенсуса, существовавшего при фашизме. Этот консенсус не превращается, правда, в эксплицитную поддержку, но на востоке Германии находит в той или иной мере свое подтверждение в опыте; потом благодаря этому возникает возможность его переноса на порядки, установленные оккупационными властями. В сознании немцев, столкнувшихся с местью и грабежом, борьба со славянскими «недочеловеками» и отказ признать людей в массе подневольных восточноевропейских рабочих трансформируются в антикоммунизм, и только благодаря этому достигается возможность рационализации, необходимая для спокойствия совести. На западе негры – удивительные и дружелюбные – разрушают фашистский элемент скрытого базового консенсуса. Но потом рабочее население Рурской области остается в одиночестве. Без взаимодействия с оккупационными властями оно как бы теряет контакт с реальностью и живет в условиях вакуума власти, потому что немецкие властители исчезли вовсе либо отошли на задний план, а союзники выступают здесь главным образом (если не говорить о демонтаже металлургических заводов) в качестве партнеров в деле налаживания добычи угля. Опыт национально-политического вакуума власти вытесняется частично индивидуальными, приватными стратегиями выживания, но, пожалуй, в еще большей мере – попытками организации рабочего самоуправления в рамках производственных советов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу