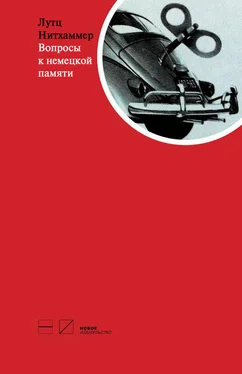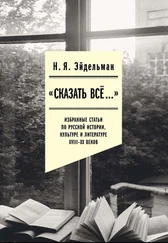Интервюер: И как, это повысило ваше доверие к новому государству под властью западных держав или нет?
Гайслер: К государству? Я тогда вовсе не рассматривал это […] в связи с государством, я тогда скорее так рассматривал, что те, кто, значит, владел материальными средствами, кто, значит, их придерживал, потому что на деньги мало что купить можно было, когда вдруг снова появились деньги, у которых была прочная база, вдруг [достали] свои припрятанные [товары]… – это было скорее такое чувство по отношению к капиталистам, которые теперь снова на глазах стали жиреть. То есть это даже и не связывали особо с государством.
И.: То есть это было скорее чувство озлобленности?
Г.: Озлобленности, да, конечно. Что, значит, внезапно, после того как появилась новая валюта, внезапно такое предложение товаров на рынке было, которое и раньше должно было бы быть, ведь не с неба же все вдруг свалилось. Где, значит, те, кто владел имуществом, производственными возможностями, их скрывали. […] То есть представить себе невозможно было, сколько всего можно было теперь купить. Ассортимент был такой большой, вещи, которых раньше было не купить, начиная с одежды до велосипедов, – я тогда очень интересовался велосипедами, потому что хотелось быть помобильнее, а велосипед тогда был инструментом мобильности {116}.
Беседуют молодой историк и ведущий член производственного совета, который в интервью то и дело умудряется связывать личное с политическим. Историк проверяет тезис, что нормальная жизнь проистекает не из специфических норм, а из того, что не утрачивает силы и на протяжении долгого времени рассматривается как обычное («Нормально – это как есть») {117}. И вот он хочет спросить, когда это началось – датируется ли это моментом в жизни человека или историческим временем? Современная эпоха как пространство опыта. Можно было бы предположить, что нормальная жизнь образуется медленно, как бы неприметно, что у нее есть структура, но нет начала. Ничего подобного: опыт современности начинается в определенный день, который можно точно назвать и с которым связаны воспоминания об интенсивных переживаниях. Это тот день, когда в их столовой дрянное пиво было превращено в вино, когда пошли все, каждый в свой город, менять все свои сбережения на 40 марок. Этот опыт в высшей степени амбивалентен. Ощущения, надо думать, были примерно такие же, как у гражданина ГДР, когда он до возведения стены приезжал в Западный Берлин и с рук менял свои восточные марки (по курсу четыре к одному или даже ниже): в тот самый момент, когда он чувствовал свою бедность, перед его глазами вставало богатство предлагаемого ассортимента, которого он прежде не видел и потому свои немудреные потребности изобретательно удовлетворял множеством иных путей – через свой заработок, через тетушку на Западе, через социалистические каналы, через стратегии самообеспечения, через черный рынок. И вдруг – внезапно, благодаря простому пересечению границы, условия существования которой были для этого человека далеки, чужды, абсурдны и неизменимы, – вся эта эфемерная реальность, способствовавшая всестороннему раскрытию личности, сплющивалась до одного-единственного фактора: наличности. У кого есть – у того есть; у кого нет – тому плохо.
К этому времени общественные регулятивные системы уже не заменяемы, они заданы безальтернативно. Они требуют подчинения и манят товарами, по которым человек долго тосковал. Теперь это уже не продовольствие, которое было главным в первые годы общественного кризиса: транспорт и международный обмен уже наладились, с голодной зимы 1946/47 года прошло уже полтора года. Вместо полезного, но унизительного и нерегулярного подаяния в виде пакетов от СARE, объявлен план Маршалла – более продуктивная, общественная перспектива содействия развитию Старого Света. Тем, кто владел информацией, было понятно, какие варианты это означало, – но кто тогда владел информацией? Решение по поводу того, какой вариант выбрать, принимается где-то — ни в одном из наших интервью опрошенные не называют тех богов, которые, сидя за облаками, так эффективно правят страной. И вдруг – всем подарки, но стол с подарками стоит за стеклом, и на нем лежат главные инструменты общественной репродукции и дифференциации: вкусности, одежда, снаряжение, мобильность.
Почувствовать особенный характер опыта денежной реформы можно только в том случае, если хотя бы в фантазии, мысленно еще раз позволить себе то, что поначалу кажется естественным шагом, однако ни разу даже близко не встречается в воспоминаниях наших рассказчиков: разбить витрину и просто присвоить себе вынутые из тайников товары, этот свадебный подарок черного рынка рыночной экономике; на фоне того, что творилось в предыдущие годы, этот поступок был бы в моральном отношении совершенно нейтральным. Среди рурских рабочих, делившихся с нами своими воспоминаниями, наверное, нет ни одного, кто не приводил бы нам веские доводы за то, чтобы разбить эти витрины; нет ни одного, кто не выражал бы озлобление, подобное тому, о котором говорит господин Гайслер; но нет среди них и ни одного, кто хотя бы подумывал о том, чтобы в самом деле так поступить. Скорее бросается в глаза то, как в воспоминаниях господина Гайслера постоянно пересекаются три ассоциативные линии: во-первых, ярость по отношению к капиталистам, которые снова вылезли наверх, и к их темным каналам; во-вторых, восхищение ассортиментом и возможностью купить почти все, что только можно захотеть, и в том числе именно те инструменты, которые могут помочь вырваться из «животной жизни»; в-третьих – табуирование вопроса о власти. То, что новую валюту помнят как «твердую» с первой минуты, а построенную на ней экономическую систему – как перспективную и нормальную, объясняется, наверное, тем, что в длительной перспективе она именно такой и оказалась.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу