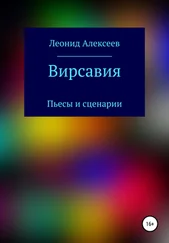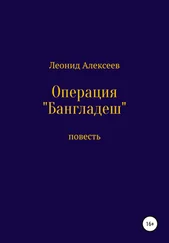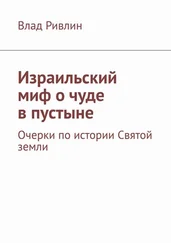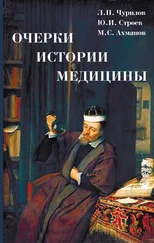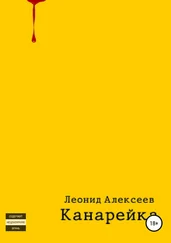Большую помощь в полевой работе мне неоднократно оказывал известный витебский краевед М. Ст. Рыбкин со своим кружком краеведов-энтузиастов.
История изучения Полоцкой земли
Общие работы по истории Полоцкой земли
История Полоцкой земли, столь отличавшаяся от других древнерусских княжеств, уже давно привлекала внимание. Ею занимались польские хронисты XV–XVI вв., мешавшие часто подлинные события русских летописей с позднейшими легендами и собственными домыслами (например, М. Стрыйковский) [1]. В ней искали поддержки в церковно-политической борьбе униатские и католические писатели XVII–XVIII вв. [2]К ней же и с той же целью обращались и в XIX в.
Мысль о создании специально полоцкой истории возникла в XIX в. и принадлежала кобринскому монаху католического ордена пиаров — Матвею Бродовичу, но труд его так и не был опубликован [3]. Не суждено было увидеть свет и работе И. А. Гарижского, специально изучавшего совместно с П. И. Кеппеном древности Северной Белоруссии (1819) [4].
Стремление к более глубокому изучению истории Белоруссии начало проявляться лишь в 50-х годах прошлого века, с выходом ряда работ в местных изданиях. Польский историк В. Сырокомля впервые, в противоположность своим соотечественникам, привлек древнерусские летописи [5]. Историю Полоцкой земли пишет К. А. Говорский, однако в печать из его труда попали лишь краткие отрывки [6]6. В это же время издается первое исследование по истории Белоруссии, составленное О. Турчиновичем [7].
В 60-х годах прошлого века начинают выходить местные губернские издания — «Памятные книжки», включившие со временем исторический, этнографический и археологический отделы [8]. Здесь впервые стали известны имена местных историков К. А. Говорского, А. М. Сементовского, П. Л. Дружиловского, иеромонаха Сергия и др.
Первые обобщающие работы по истории Полоцкой земли появляются во второй половине XIX в. Кроме популярной книги И. Д. Беляева, весьма далекой от методов научного исследования [9], вышли работы М. В. Довнар-Запольского и В. Е. Данилевича, которые попытались подойти к вопросу с научных позиций. Работа М. В. Довнар-Запольского суживала хронологические рамки (только до XII в.) и широких исторических задач не ставила. Ее заслуга — стремление выйти за пределы древнерусских летописей и привлечь сведения других источников (хроник, данных исторической географии, топонимики и т. д.). Автор ставил вопрос и о границах расселения древнерусских племен [10].
Вышедшая следом работа В. Е. Данилевича носила более глубокий характер [11]. Автор заново изучил все известные русские и иностранные первоисточники, среди которых привлек много новых, что позволило ему написать исследование по истории Полоцкой земли «от каменного века». Собственно история Полоцкой земли строилась только на письменных источниках (главным образом на пассивном пересказе древнерусских летописей) и отражала лишь политическую историю земли и взаимоотношения между древнерусскими князьями. Немногим отличалось и изложение истории Полоцкой земли в литовское время, хотя некоторую помощь здесь оказывало большее количество письменных источников, которыми располагал автор. В последнем разделе рассматривалось политическое и общественное устройство Полоцкой земли, юридическая роль веча и князя во все периоды истории Полотчины, роль пригородов, классовая дифференциация населения, роль торговли и т. д. Однако монография В. Е. Данилевича, скрупулезно собравшая большое количество письменных источников, но, как и книга М. В. Довнар-Запольского, писавшаяся в дошахматовский период изучения летописных источников и, следовательно, недостаточно критически к ним относившаяся, теперь нас не удовлетворяет.
Развитие местной археологии и историкокраеведческой мысли [12]
Интерес к археологическим древностям Белоруссии возник уже в XVI в. У известного польского хрониста Матвея Стрыйковского мы находим довольно много сведений этого рода и прежде всего о Борисовых камнях, описанных, правда, с большой неточностью [13]. Трудами этого автора пользовались позднее многие историки XVI–XVII вв., пересказывая его сведения без всякой критики (Вьюк-Коялович, Шлецер, Стебельский, Свенцицкий и др.) [14]. Ученые (Кромер, Длугош, Матезиус и др.) неоднократно упоминали курганы и недоумевали по поводу встреченных там находок. Матезиусом (XVI в.) было высказано даже предположение, что курганные горшки не что иное, как «произведение природы (!)» [15]. Белорусскими археологическими древностями интересовался В. Н. Татищев, который, отыскивая место Тмутаракани, поместил ее в верховьях р. Прони, где, сообщал он, по сведениям одного «знатного дворянина», «есть запустелое городище и неколико здания каменнаго видно, имени же никто не знает» [16].
Читать дальше
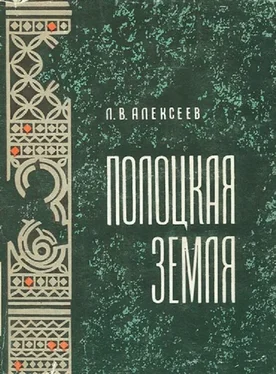
![Евгений Алексеев - Замерзшая Земля [СИ]](/books/48237/evgenij-alekseev-zamerzshaya-zemlya-si-thumb.webp)

![Виталий Пенской - Полоцкая война [Очерки истории русско-литовского противостояния времен Ивана Грозного. 1562-1570] [litres]](/books/407508/vitalij-penskoj-polockaya-vojna-ocherki-istorii-russko-litovskogo-protivostoyaniya-vremen-ivana-groznogo-1562-1570-litres-thumb.webp)