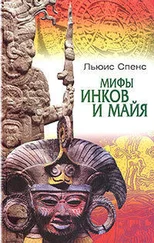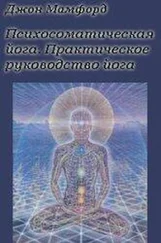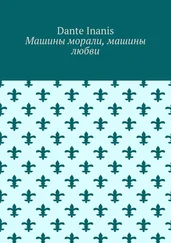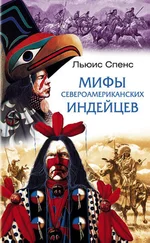А если так, то что это были за потребности? Эти вопросы еще ждут своего ответа, — вернее, для начала их следует поставить перед собой. Ответить же на них нельзя без желания по-новому взглянуть на имеющиеся свидетельства и применить разумное теоретизирование, подкрепленное тщательно подобранными аналогиями к обширным «белым пятнам» доисторической эпохи существования человека, когда впервые складывался его характер — как создания, уже отличного от простого животного. До сих пор и антропологи, и историки, занимающиеся изучением техники, оберегали себя от теоретических ошибок, допуская как самоочевидное слишком многое — в том числе, собственные предпосылки. И это привело к гораздо более серьезным ошибкам истолкования, нежели те, которых они избегали.
Результатом явилось опирающееся на один-единственный фактор объяснение изначального развития человека, сосредоточенное вокруг каменного орудия: чрезмерное упрощение в методе, от которого в остальных областях уже отказались по причине его несоответствия общей теории эволюции, а также для истолкования других периодов человеческой истории, от которых сохранилось больше исторических свидетельств.
Разумеется, научное исследование неизбежно ограничивает тот факт, что обо всем, что касается не засвидетельствованного письменно начала эпохи человеческой жизни, (т.е. подавляющей части всего периода его существования, за исключением последнего отрезка, составляющего всего 1—2% от целого), — по большей части можно только строить догадки. Это рискованное дело, причем имеющихся трудностей отнюдь не уменьшают разрозненные находки — обломков костей или каких-либо изделий, поскольку без проницательного анализа, подкрепленного воображением, участия проницательного воображения и интерпретации по аналогам эти материальные улики говорят слишком мало. Однако вовсе воздерживаться от теоретизирования было бы еще менее разумно, поскольку тогда позднейшая, зафиксированная в письменных памятниках история человека представала бы исключительной и возникшей совершенно внезапно — как если бы на земле вдруг возник совершенно иной биологический вид. Говоря о «сельскохозяйственной революции» или «урбанистической революции», мы забываем, сколь великое множество малых холмов должно было одолеть человечество, прежде чем подняться к этим горным вершинам. А теперь позвольте мне изложить дальнейшие теоретические доводы, которые должны послужить необходимым инструментом для достижения адекватных знаний.
2. Дедукция и аналогии
Существует два способа частично пролить свет на эпоху раннего развития человека. Первый часто применяется во всех науках: из наблюдаемых фактов дедуктивно выводится невидимый или не отраженный в свидетельствах контекст. Так, откопав на поддающейся датировке стоянке древнего человека смастеренный из ракушки моллюска рыболовный крючок, можно сделать вывод — полагаясь единственно на эту крошечную улику — не только о наличии в данной местности воды (пусть даже русло реки или озеро давным-давно пересохли), но также о том, что здесь обитали люди, включавшие в свой рацион рыбу, выбиравшие определенную и изготовлявшие из этой ракушки крючки по некой модели, зародившейся только у них в голове, — люди, достаточно изобретательные, чтобы приспособить кишки животных или растительные волокна под леску, и достаточно терпеливые и ловкие, чтобы ловить рыбу данным способом. Хотя многие другие звери и птицы тоже питаются рыбой, ни один из видов животных, кроме человека, не пользуется рыболовным крючком.
Такие заключения будут вполне здравыми, хотя все прочие следы позитивных свидетельств, кроме этого крючка, исчезли — в том числе, и кости самого рыбака. Если при этом еще помнить о вероятности того, что рыболовный крючок мог попасть сюда откуда-то издалека, то все эти выводы будут тверды и незыблемы. Со сходными же ограничениями и сходным риском впасть в заблуждение, антропологи восстанавливают облик всего человеческого тела по величине и форме разбитого черепа и обломку челюсти — хотя, случись им переоценить свои силы, на погибель им может восстать призрак «пилтдаунского человека» [2] Речь идет о найденных в начале XX века в Англии, около Пилтдауна, фрагментах человеческого черепа и сильно недоразвитой нижней челюсти. По этим останкам ученые поспешили сделать вывод о существовании ок. 500 тысяч лет назад некоего «пилтдаунского человека», или «эоантропа». Однако проведенные в середине века исследования показали, что это фальшивка: челюсть принадлежала обезьяне, а череп — человеку, жившему всего 750 лет назад. (Прим. пер.)
.
Читать дальше
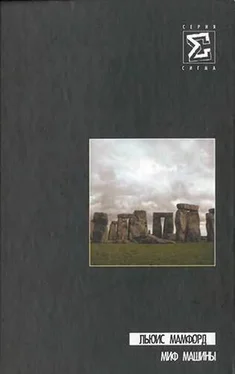

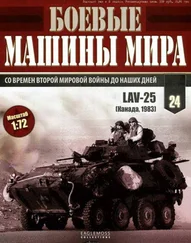
![Роберт Асприн - Удача или МИФ [= Иначе — это МИФ]](/books/204374/robert-asprin-udacha-ili-mif-inache-eto-mif-thumb.webp)