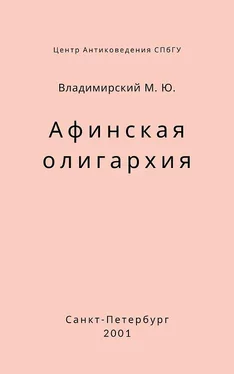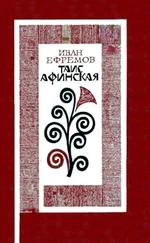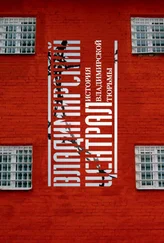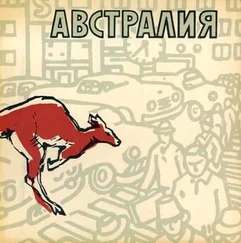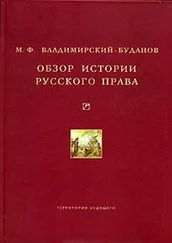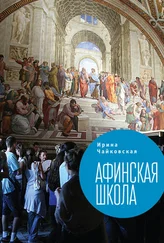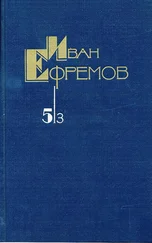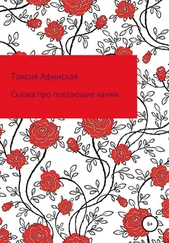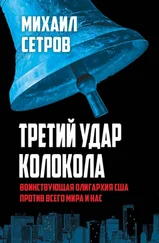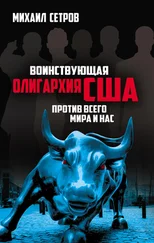Ho schinokephalos Zeus hode proserchetai
Perikles toidwion epi tou kraiou
echon, epeide toustrakon paroichetai
Вот приближается к нам Перикл,
луковиноголовый Зевс,
с Одеоном на голове,
так как его остракизм сорвался
(Plut. Per., 14, пер. И.И.Толстого).
«Учитывая, что здание Одеона было закончено около 446/45 г. [80] Колобова К.М. Древний город Афины и его памятники. Л., 1961. С. 266.
, а декрет Морихида, принятый в 440 г., запретил высмеивать в комедиях граждан под их собственными именами [81] Толстой И.И. История греческой литературы, Т. 1. М.―Л., 1946. С. 433.
, становится наиболее вероятным, что указание Плутарха на личное противостояние Перикла и Фукидида соответствует действительности. Кроме того, теперь нам известны три остракона с именем Перикла [82] Rhodes P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. Р. 350.
.
Мы не знаем, где Фукидид, сын Мелесия, провел годы своего изгнания. Жил ли он в Спарте, на что может косвенно указывать Плутарх (Plut. Per., 8), или на Эгине, как указывает Маркеллин (Marc. Vita Thuc., 24), или еще где-либо — проверить этого мы не можем. Согласно Плутарху, изгнание Фукидида надолго поставило точку в политической борьбе в Аттике (Plut. Per., 14). Во всяком случае, после остракизма активность олигархической оппозиции резко падает, что заставляет нас согласиться с Мейером в том, что ее функциональные способности в сильной степени основывались на личном политической и организаторском таланте Фукидида [83] Meyer H.D. Thukydides… S. 151.
. Видимо, не нашлось никого, сравнимого по возможностям и авторитету, кто смог бы его заменить. Однако это отнюдь не означает, что оппозиция вообще исчезла. Гетерии, конечно, продолжали существовать после изгнания Фукидида, как существовали и до его появления на политической арене. Что же касается созданной им партии, то она тоже могла сохраниться, поскольку составлявшие ее люди оставались в Афинах. Возможно она сократилась в числе, но, в принципе, ничто не мешало соратникам Фукидида собираться в народном собрании единой группой. Мы не имеем сведений ни за, ни против этой версии, однако последующие события подкрепляют предположение о сохранении структуры оппозиции.
После окончательного устранения соперников политика Перикла приобретает гораздо более умеренный характер. Он перестает считаться исключительно с мнением демоса; это заставляет согласиться с тем, что демагогия для него всегда являлась лишь средством, а по своим симпатиям и складу характера он был политиком аристократического или даже монархического толка (Plut. Per., 15). Этот поворот привлек на его сторону немало состоятельных и образованных людей, таких, например, как отчим Платона Периламп [84] Guthrie W.K.C. A History of Greek Philosophy, vol. IV. Cambridge, 1975. P. 11.
или историк Фукидид, который отзывается о правлении Перикла с уважением и симпатией. Зато он потерял значительную долю популярности у масс. В результате против Перикла и его правления складывается то, что можно назвать ультрадемократической оппозицией, во главе которой стоял богатый кожевенник Клеон, сын Клеенета, человек грубый и малообразованный, но энергичный, беспринципный и обладающий природным красноречием демагог. К тому же, у Перикла по-прежнему оставалось множество врагов из состоятельных классов, которые никогда не могли простить ему того, что он сделал демос руководящей силой в государстве и приучил его жить и веселиться на общественный счет [85] Белох Ю. История Греции, Т. 2. С. 406.
.
В конце 30-х гг. положение Перикла в Афинах начинает явственно колебаться. Это выразилось в целой серии судебных процессов, направленных против близких ему людей. Мы не знаем последовательности этих процессов и их точной датировки, однако ясно, что речь идет о кампании по дискредитации Перикла с использованием той же тактики, которую в свое время применил Эфиальт против Ареопага — удар по ближайшему окружению. Кампания началась, видимо, с декрета Диопифа, постановляющего, чтобы люди, не верующие в богов или распространяющие учения о небесных явлениях, были привлекаемы к суду как государственные преступники (Plut. Per., 32). Этот Диопиф, известный в Афинах и во всей Греции прорицатель, был другом Никия (Schol. in Aristoph. Equit., 1085) и, определенно, принадлежал к афинским олигархическим кругам [86] Schachermeyr F. Religionspolitik und die Riligiositat bei Pericles. S. 61.
. Кроме того, он был связан со Спартой и Дельфийским оракулом (Plut. Lys., 3; Xenoph. Hell., III, 3,3).
Мишенью декрета Диопифа был, конечно, в первую очередь, Анаксагор, учитель и друг Перикла (Plut. Per., 32). Любопытно, что, по свидетельству, приведенному Диогеном Лаэртским, обвинителем Анаксагора был не кто иной, как Фукидид, сын Мелесия, срок изгнания которого должен был истечь в 433 г., что дает возможность датировать эти события 433/32 г. [87] Белох Ю. История «Греции, Т. 2. С. 406; Gomme A.W. Historical Commentary on Thucydides, vol. II. Р. 187.
Согласно тому же свидетельству, Фукидид обвинял Анаксагора не только в нечестии, но и в «мидийской измене» (Diog.; Laert., II, 13). Это дало повод некоторым ученым относить процесс Анаксагора к 449 г., то есть ко времени непосредственно после Каллиева мира. Однако декрет нельзя отнести к более раннему времени, что же касается обвинения в «мидийской измене», то хотя для 433 г. оно и было уже не актуально, но оставалось вполне стандартным для судебных дел подобного сорта, особенно же в устах только что вернувшегося из 10-летнего изгнания престарелого Фукидида (ему должно было быть около 67 лет). По другой версии, которую тоже приводит Диоген Лаэртский (Diog. Laert., II, 12), обвинение в нечестии выдвинул против Анаксагора Клеон. Диодор, правда, рассказывая о процессе Анаксагора, ничего не говорит об участии Клеона (Diod., XII, 39). Впрочем, известно, что, согласно афинской конституции, обвинителей могло быть и несколько.
Читать дальше