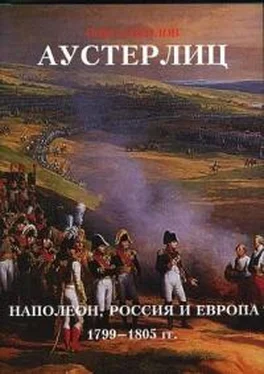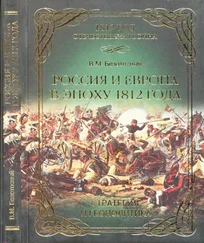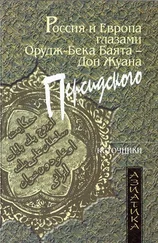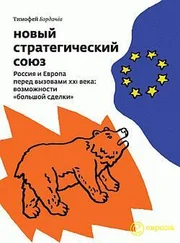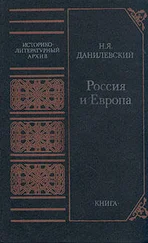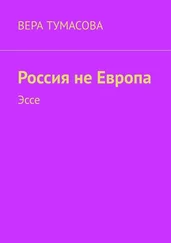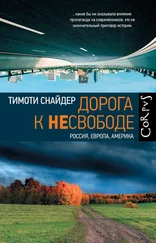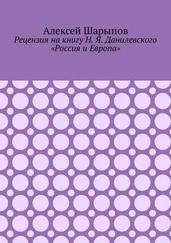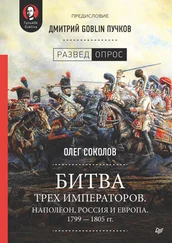Целый ряд влиятельных политиков считал, что Россия должна соблюдать «свободу рук». Сторонником тактики нейтралитета был участник Негласного комитета В.П. Кочубей. Он полагал, что Россия не нуждается ни в одной из европейских держав. Если она будет держаться независимо, они будут сами заискивать перед ней. Таким образом, она сможет воздержаться от участия в ненужных ей военных авантюрах. «Россия, — говорил он, — достаточно велика и могущественна по своим размерам, населению и положению; ей нечего бояться с той или другой стороны, лишь бы она оставляла других в покое. Она слишком вмешивалась без всякого повода в дела, которые прямо ее не касались. Ни одно событие не могло произойти в Европе без того, чтобы Россия не обнаружила притязаний принять в нем участие и не начинала вести дорогостоящие и бесполезные войны... Что приносили многочисленному населению России дела Европы и ее войны, вызывавшиеся этими делами? Русские не извлекали из них для себя никакой пользы, а только гибли на полях сражений и с отчаянием в душе поставляли все новых рекрутов, платили все новые налоги» 21. «Мир и улучшение нашего состояния — вот те слова, которые нужно написать золотыми буквами на дверях кабинетов наших государственных деятелей» 22.
Другой влиятельной группой русских политиков были сторонники про-английской ориентации. К ним относились не только Воронцовы, но также Панин, Строганов и Чарторыйский. Они настаивали на том, что единственно возможным альянсом для России является союз с Англией, и осаждали императора докладами и записками о пользе подобного союза. В своем англофильстве эти люди доходили даже до того, что утверждали, что русский народ изначально не способен к мореплаванию. «У нас никогда не будет торгового флота... — заявлял Воронцов. — Неспособность наших моряков и капитанов торгового флота такова, что мало кто пожелает нанимать и страховать наши суда по причине больших расходов, чем это требуется для судов других держав» 23. А граф Панин писал следующее: «Борьба, которую Великобритания ведет практически одна сегодня против Франции, имеет цель поставить пределы могуществу, опасному для спокойствия Европы. Ее (Англии) интерес является, таким образом, и интересом нашего двора» 24.
Наконец, существовала и другая группа русских государственных деятелей, считавших выгодными для России сближение и союз с Францией. К ним относились: А.Б. Куракин, Ф.В. Ростопчин, Н.П. и СП. Румянцевы.
В общем же надо отметить, что, несмотря на наличие разных точек зрения на внешнюю политику России, большинство влиятельных лиц империи поддерживало линию независимого курса. «Господствующая партия есть партия национально-русская, — отмечал баварский поверенный в делах Ольри в 1802 г., — то есть образовавшаяся из людей, которые большею частью думают, что Россия может довольствоваться сама собою и что она должна поддерживать с европейскими великими державами лишь общие отношения, и прежде всего те, которые необходимы для вывоза ее земледельческих продуктов, что она не должна принимать никакого участия в обсуждении волнующих нас вопросов» 25.
Таким образом, у Александра I была полная свобода в выборе внешнеполитических приоритетов. В любой ситуации, конечно при условии отсутствия внезапных резких поворотов, которыми было ознаменовано предыдущее царствование, молодой император мог найти для себя точку опоры. Причем, разумеется, самым логичным, самым выгодным для России и самым простым с точки зрения исполнения был курс независимый, направленный не на внешнеполитические авантюры, а на укрепление благосостояния страны. Тем более что в конце 1801 г. — начале 1802 г. в Европе все шло к установлению мира и нормальных отношений между странами.
Летом 1801 г. в Египте отгремели последние выстрелы. 20-тысячная английская армия при поддержке 40-тысячного турецкого войска окружила французов в Александрии и в Каире. 27 июня 1801 г. войска под командованием генерала Бельяра вынуждены были сдать Каир, а 2 сентября генерал Мену после героической обороны капитулировал в Александрии. Впрочем, капитуляция, подписанная французами (так называемое Эль-Аришское соглашение), была исключительно почетной. Армия не сдавалась, а лишь покидала Египет на английских кораблях, сохраняя оружие и знамена. Это было, конечно, очень почетно для горсти французских солдат, сражавшихся до последнего, но ровным счетом ничего не меняло в политическом смысле: Египет, как и Мальта, был утрачен. Эта параллель не случайна: так же, как и на Мальте, англичане не очень спешили передавать отнятое ими у французов первоначальным владельцам. В Египте остались английские войска, а британские политики стали пытаться разыграть карту сепаратизма беев- мамелюков, стремясь с их помощью оторвать Египет от Османской империи и превратить его в свою колонию.
Читать дальше