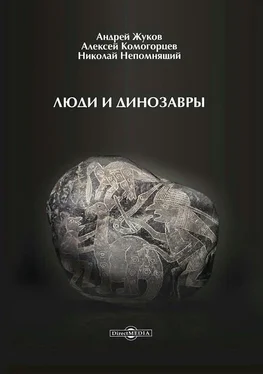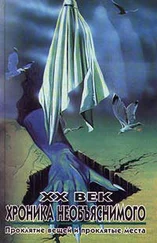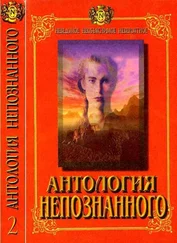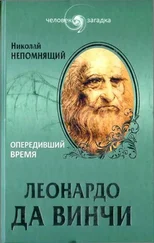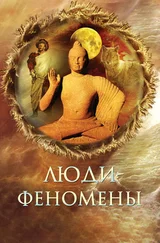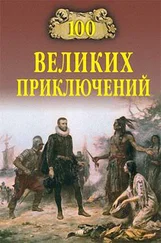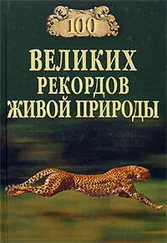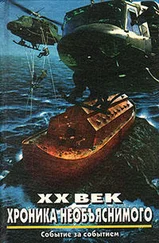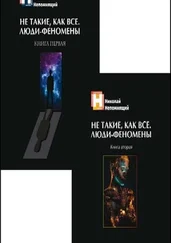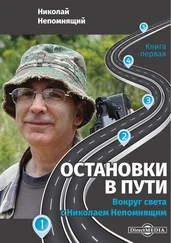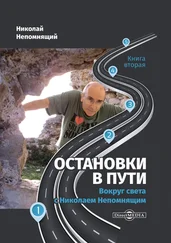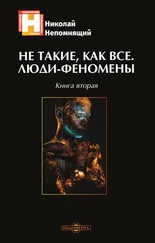Обманывая свою дочь, они снаряжают ее будто бы под венец, но Елизавета все понимает. Ее ведут к морю или озеру, в котором обитает змей, и оставляют ее там. В дальнейшем песня повествует, что мимо того места на белом коне проезжает Георгий — воин, который после ратных подвигов возвращается домой. Он выспрашивает девушку и остается около нее, чтобы спасти ее от змея. Девушка ищет у него в голове, и он засыпает. Когда появляется змей, Елизавета не может добудиться героя и плачет. Горячая слеза падает ему на щеку, и он просыпается.
Пропп пишет: «Стоило бы ожидать, что герой схватится со змеем, убьет его и освободит царевну. Но в песне никакого боя нет. Георгий не убивает змея, а укрощает его: он произносит над ним заклинание или ударяет его своим «скипетром», и змей полностью смиряется. Он побежден как бы внутренней силой героя».
Далее Георгий предлагает Елизавете снять свой пояс, который он обматывает вокруг шеи змея, а конец его дает ей в руку, после чего они возвращаются к дому родителей Елизаветы. Именно этот момент изображен на иконе.
В песне сообщается, что Георгий предлагает родителям Елизаветы принять христианство. Если они согласятся, он убьет змея, если же нет, «я спущу змею лютую на твой град». Родители Елизаветы, конечно, сразу же соглашаются принять истинную веру, но Георгий требует еще, чтобы они поставили три церкви, и они соглашаются. На этом песня чаще всего кончается. Певцы совершенно забывают о змее. Формальный конец их мало интересует, но в отдельных вариантах сообщается, что Георгий расправляется со змеем и исчезает.
Аналогичный сюжет представлен на новгородской иконе XIV в. «Чудо Георгия о змие, с житием в 14 клеймах», хранящейся в Русском музее Санкт-Петербурга. Важно, что эта икона — древнейшая из всех русских икон, на которых изображен змееборческий подвиг святого Георгия. Первое, что бросается в глаза — поразительное композиционное сходство с фреской из Старой Ладоги. Пропп предполагает, что это совпадение свидетельствует не о влиянии фрески на икону, а о том, что данный тип иконы был традиционен для определенного исторического периода.
На новгородской иконе Георгий сидит на белоснежном коне. Сидит совершенно прямо, без всякого изгиба или наклона корпуса. Он не управляет конем, поводья ослаблены и провисают. Вопреки драматичности сюжета фигура Георгия абсолютно спокойна. Хотя он и держит в руках копье, но это не столько оружие, сколько знамя: на копье развевается вымпел. Весь его внешний облик соответствует сюжету, согласно которому Георгий не вступал со змеем в буквальную схватку, а победил его «заклинанием».
Пропп подчеркивает, что по своей фактуре икона весьма архаична, и фигура Елизаветы — наиболее архаическая ее часть: «Скованность и неподвижность фигуры — знак ранних, примитивных форм иконописания. Фигура Елизаветы вытянута вверх без всяких изгибов, так же как совершенно прямо на коне сидит Георгий и совершенно прямо, не извиваясь, по земле вытянулся змей».
В отличие от фрески из Старой Ладоги пояс на новгородской иконе обмотан не вокруг шеи, а вокруг затылочного рога чудовища. Заметим, что ровно тот же самый пояс фигурирует в истории св. Марты-Марфы, св. Лифара из Орлеана и в несколько видоизмененной форме столы в предании о св. Клименте и драконе Граулли. Ключ к пониманию скрытого символизма этого наиважнейшего образа содержится в славянской традиционной культуре. Главная функция пояса в рамках интересующего нас иконографического сюжета состоит в установлении связи между «своим» и «чужим» пространством, в частности, «старым» и «новым» домом. У белорусов известна традиция, в согласии с которой при переходе в новый дом хозяин притягивает всех членов семьи внутрь избы за нитку или пояс, а молодая жена, входя в дом мужа после венчания, бросает свой пояс на печь. В России считалось, что с помощью пояса можно «привязать» скотину ко двору. При первом выгоне скота в поле у восточных славян было принято расстилать в воротах пояс (чаще всего красный), его также привязывали к рогам коровы, клали пастухам в сумки и т. д. При покупке скота его вводили в новый дом через опояску, постланную у ворот. Во Владимирской губернии в этот момент приговаривали: «Забывай старого хозяина, привыкай к новому!»
Отсюда можно заключить, что рассматриваемый нами иконографический сюжет содержит мотив установления ритуальной взаимосвязи с чудовищем, тождественной его доместикации (одомашниванию). В этом свете отдельные концовки духовного стиха о Егории Храбром, сообщающие о финальной расправе Георгия со змеем, совершенно противоречат его основному содержанию и представляются результатом позднейшей творческой «доработки».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу