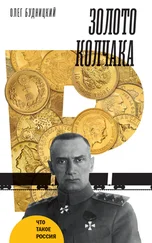Переписка, что является не слишком частым случаем, сохранилась практически полностью — в фонде Маклакова в архиве Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфордском университете (Стэнфорд, Калифорния) и в фонде Алданова в Бахметевском архиве русской и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском университете (Нью-Йорк). «Практически полностью» не означает, к сожалению, все-таки полностью: часть рукописных писем Маклакова утрачена. Тем не менее по отношению к общему объему переписки число утраченных писем незначительно, и нить переписки, суть обсуждаемых проблем нигде не теряется. В фонде Маклакова в Гуверовском архиве его переписка с Алдановым занимает целую коробку (20 объемистых папок), здесь хранятся оригиналы писем Алданова и машинописные отпуски писем Маклакова {45}. В Бахметевском архиве, соответственно, находятся оригиналы писем Маклакова и машинописные отпуски Алданова. В общей сложности они занимают 41 папку.
Переписка Алданова и Маклакова богата как мыслями, так и сведениями. Размышляли они, к примеру, о том, как соотносятся «права человека и империи» (выражение Алданова). Маклаков всегда сознавал «необходимость обоих принципов, которые составляют государственную антиномию»: «Они противоречивы, но оба необходимы. Мы все достаточно видели, к чему приводит империя, которая пренебрегает правами человека; таков был наш старый режим, теперь фашизмы разного рода». Однако, подчеркивал Маклаков, «нет спасительной формулы к примирению обоих начал; нет универсального компромисса; грань между обоими принципами постоянно передвигается, как в зависимости от внешней обстановки (мир, опасность войны, война), так и степени общественной культуры. Потому можно иметь далекие идеалы, но вопрос о том, что нужно и почему нужно сейчас, решается не благородством наших идей, а грубыми фактами жизни. Тут политические деятели невольно уподобляются докторам» {46}.
«Доктора» в российском случае оказались не самыми квалифицированными. Впрочем, существовало ли «лекарство», способное предотвратить катаклизм, потрясший страну в 1917 г.? Это один из вопросов, на который пытались ответить самим себе корреспонденты — как в опубликованных произведениях, так и в личной переписке. Письмам они доверяли больше — поскольку позволяли себе высказывать в них различные «еретические мысли», обнародование которых считали преждевременным.
Настроения русских эмигрантов по обе стороны океана были далеки от оптимизма. Многие эмигранты, оказавшиеся в советской зоне оккупации, были арестованы и депортированы в СССР, несмотря на преклонный возраст. Маклаков опасался установления коммунистического режима во Франции. Вскоре после войны агенты НКВД чувствовали себя в Париже, по крайней мере по мнению эмигрантов, как у себя дома. Алданова поразила фраза Маклакова в его письме Б.И. Николаевскому: «Для меня нет сомнения, что мы здесь не избежим катастрофы и что здесь до нас доберутся, как добрались до П.Д. Долгорукова». «Меня трудно превзойти пессимизмом, — констатировал Алданов, — но Вы превзошли» {47}. Однако писатель не считал возможность похищения и принудительной доставки на родину совершенно исключенной и в связи с этим поставил вопрос о том, чтобы выхлопотать американские визы человек для десяти. Разумеется, он предупредил Маклакова о строгой конфиденциальности этого предложения. Маклаков от визы отказался: «За предложение искренне благодарю, как [и] за дружбу; но что бы здесь ни было, я никуда не уеду. Не только я чувствую себя в положении капитана, который с корабля слезает последним, но, главное, в мои годы прятаться, чтобы спасти свою уже ни на что не нужную жизнь, — ридикюльно. А я под конец смешным быть не хочу» {48}.
Алданов, впрочем, также был настроен не слишком оптимистично:
«Я моложе Вас, но ей-Богу иногда радуюсь, что тоже уже очень немолод и не увижу следующих глав трагикомедии, — писал он Маклакову всего лишь несколько месяцев спустя после окончания Второй мировой войны. — Т. е., увидеть их, пожалуй, и было бы интересно — вот как интересно читать Гиббона. Но переживать их — нет, с меня достаточно. Не думаю, чтобы еще было какое-либо поколение с сотворения мира, которое видело бы и пережило бы столько сколько мы. Читаю старых второстепенных романистов, живших в ту эпоху, которую я пытаюсь описать в романе "Истоки". Право, смешно и стыдно. Это Хвощинская написала: "Бывали времена хуже, но подлее не было" (Некрасов взял у нее). А жили они в лучшее (не говорю: в очень хорошее, но в лучшее) время и русской и мировой истории. А вот наше время — действительно, пока не было ни хуже, ни подлее» {49}.
Читать дальше
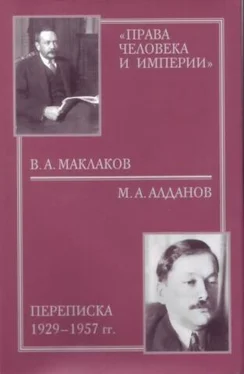
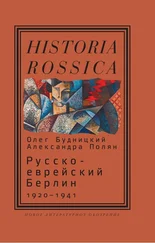



![Олег Будницкий - Терроризм в Российской Империи. Краткий курс [калибрятина]](/books/387725/oleg-budnickij-terrorizm-v-rossijskoj-imperii-kra-thumb.webp)