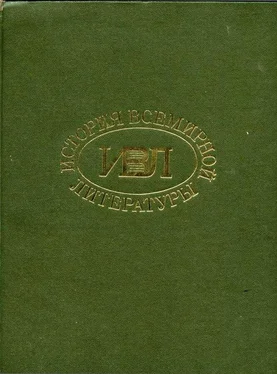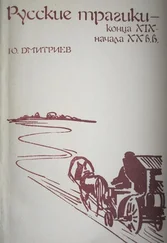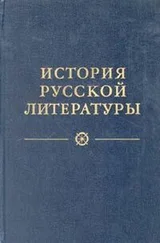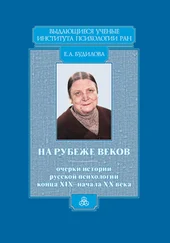Во второй части трилогии, в романе о Леонардо да Винчи, Мережковскому удалось создать выразительный, исторически достоверный характер героя на фоне панорамы Италии конца XV — начала XVI в. В судьбе Леонардо автор увидел драму художника, чья неукротимая жажда познания нередко мешала ему воплотить задуманное. Прозорливо затронул Мережковский актуальную для своего века проблему этики ученого, его права на открытие, которое в условиях тиранического режима, социальных антагонизмов, войн может быть использовано во вред человечеству. Отношение автора к герою противоречиво: он импонирует мощью своей «сверхчеловеческой» личности, стремлением постичь «тайны» духа и плоти; вместе с тем «богов презревший» естествоиспытатель — материалист чужд Мережковскому — мистику.
В первой и второй частях трилогии Мережковский оставался в границах традиционного реалистически объективированного повествования. Приближение к поэтике романа — мифа обнаружилось в «Петре и Алексее» (З. Минц). Автор дал навеянную «петербургским текстом» русской литературы («Медный всадник» Пушкина, «Невский проспект» Гоголя, «Подросток» Достоевского) вариацию «городского мифа» (невская столица — и средоточие преобразовательной энергии Петра, и город на костях народных, зловещий мо́рок, которому грозит неотвратимая месть стихий). Мифологизирован и исторический конфликт Петра и его сына Алексея, ставшего оплотом старорусской оппозиции царю-Антихристу. Повинный в убийстве царевича, Петр был уподоблен в романе богу — отцу, принесшему сына в жертву миру (Е. Старикова). Однако как художественное целое трилогия к обновлению русской прозы не привела. Доктринальный характер мысли Мережковского мешал его стилевым исканиям. Он сам признавался, что влекся не столько к эстетической, сколько к религиозной стороне «учения символизма».
Для молодого Брюсова (1873–1924) символизм — понятие только художническое; искусство независимо от «внешних» — общественных, религиозных, философских — целей; оно — инструмент для выражения современной души, и чем он совершенней, тем вернее это выражение. Брюсов ссылался на опыт новой поэзии Запада и стал увлеченным ее пропагандистом. Переводы из Э. По, Малларме, Метерлинка, Верлена, Рембо, Верхарна заняли значительное место в брюсовских сборниках «Русские символисты». «Про́клятых» поэтов увлеченно переводили в 90‑е годы Анненский и Сологуб. В поэме «Конец века. Очерки современного Парижа» (1891) Мережковский отметил среди знамений времени влияния поэзии Бодлера, чьих «цветов смертельный аромат надолго отравил больное поколенье», и лирики Э. По: «За Вороном твоим, за вестником печали, поэты „Nevermore!“, как эхо, повторяли…»
«Ворон» Э. По в переводе Мережковского вышел в 1892 г.; в 1894 г. — перевод Брюсова «Романсов без слов» Верлена. В 1895 г. Бальмонт опубликовал свои переводы «Таинственных рассказов» и «Баллад и фантазий» По и дал предисловие к изданию поэзии Бодлера. Реминисценции «Цветов зла», лирики Верлена и Малларме, пьес и песен Метерлинка присутствовали в произведениях Бальмонта, Сологуба, З. Гиппиус, А. Добролюбова. Блок писал впоследствии о Мережковском, Минском как о восьмидесятниках, получивших «по наследству символизм с Запада».
Брюсов признавался, что поэзия французских символистов открыла ему «новый мир». Следуя Малларме, предлагавшему дематериализовать слово, чтобы оно отвечало вибрации настроения и мысли, Брюсов в ранних экспериментальных стихах стремился разуплотнить образную ткань («Осеннее чувство», «После грез» и др.). Утрируя приемы импрессионистского письма, поэт заменял объективные связи явлений произвольными. В брюсовском стихотворении «Творчество» (1895), вызвавшем волну насмешек и недоумений, вереница парадоксальных импрессионистски разорванных образов имела не только эпатирующую, но и содержательную функцию. Поэт мог сказать, что стихотворение это — «не безразличный набор слов»: его целью было изобразить само таинство творческого акта. В духе совета А. Рембо «передавать неясное неясным» состояние грезящего «я» воссоздавалось наплывом сновидных, зыбких форм; их причудливые, алогичные сочетания — эмблема творческого процесса с его непостижимостью, иррациональностью, волшебством:
Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко — звучной тишине
……..…
Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне…
Сказавшаяся в «Творчестве» фрагментарность художественного мышления для Брюсова — признак новой поэзии, дающей «ряд образов, еще не сложившихся в общую картину»; они — лишь «вехи невидимого пути, открытого для воображения читателя». В новой лирике Брюсов акцентировал импрессионистские, а не символистские черты; символ имеет чисто психологическое значение, он — одно из средств «намекающего» искусства, чья цель — «возбудить деятельность воображения». Здесь Брюсов был особенно близок к Малларме, полагавшему, что поэтический текст — это «мистерия в литерах», он немыслим вне «сокровенного», «смутного», и интерес читателя влекут именно эти «темно́ты».
Читать дальше