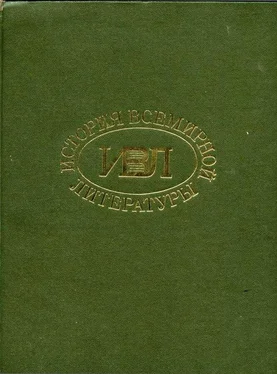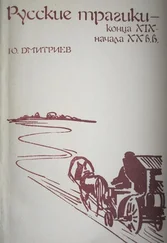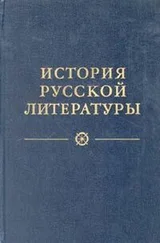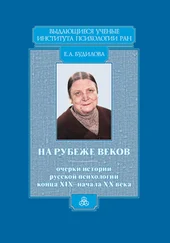Все эти признания относятся к прозе Бунина. Его поэзия не имела, да и не могла иметь, столь же широкий резонанс. Это, несомненно, значительно более скромная часть наследия писателя, однако тоже превосходная. Обидные упреки во вторичности, традиционализме, даже эпигонстве, нередко адресовавшиеся ей, конечно, несправедливы. Бунин — поэт не только подхватил традиции. Он обновил и усовершенствовал возможности русского классического стиха — особенно в сфере изобразительной пластики.
К тому же поэзия Бунина нерасторжимо связана с общим содержанием его творчества, с основными путями его классической прозы.
В раннюю пору писательства проза Бунина испытала заметное воздействие его лирики. В творчестве второй половины 900‑х и 10‑х годов ощутимее, сильнее влияние обратное. Начиная с лет революции ширится эпический мир бунинской поэзии: быт усадебный, крестьянский, старомосковский («Наследство», «Сенокос», «Игроки» и др.); мотивы отечественной истории, величавой и трагической от самых истоков ее, со своими героями, мучениками и праведниками («Пустошь», «Святой Прокопий», «Руслан» и др.); чужие страны — их нынешняя жизнь, увиденная жадно — внимательным взором неутомимого путешественника («Венеция», «Цейлон»), и тени их незапамятного прошлого, ожившего в воображении («Стамбул», «Иерусалим», «Храм Солнца» и др.). В стихах Бунина нередко возникают прозаически — повествовательные интонации. Свободно обрабатываются сюжеты русских былин, летописных преданий, народные притчи, библейские легенды и суры из Корана, восточные мифы и апокрифы — египетские, сирийские, иранские, халдейские («Святогор и Илья», «Князь Всеслав»; «О Петре — разбойнике», «Александр в Египте», «Тора», «Потоп», «Источник звезды» и т. д.). Поэт еще более щедр, чем раньше, на подробности внешней жизни, и еще более точными, дробными, вещественными становятся они.
Это не означает, что Бунин — поэт переходит теперь в какое — то другое качество. Лишь некоторые из его вещей можно целиком отнести к эпически — стихотворному роду. В целом же бунинская поэзия остается чисто лирической. Подробно — описательная стихия подчиняется в ней (и в этом, в частности, ее оригинальность) исповедально — философскому содержанию. Философский стержень многих стихов Бунина — «я», личность и жизнь мира. Разные «правды» о нем и здесь вступают в напряженный диалог.
…Мы и земле и богу далеки…
В гробах трясин родятся огоньки…
Во тьме родится свет… Мы — огоньки болота.
(«Трясина»)
Или:
Прекрасна ты, душа людская! Небу,
Бездонному, спокойному, ночному,
Мерцанью звезд подобна ты порой!
(«Летняя ночь»)
Поэт пронзительно и скорбно чуток к обреченности, свойственной каждой отдельной форме существования. И только чувство «соприкасанья со всем живущим», умножающее связи «я» с миром, возможность слияния духовного опыта современного человека с опытом всего пройденного человечеством пути способны умерить эту боль:
Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ, и времени в нем нет.
(«В горах»)
В стихах Бунина встретится и «акмеистское» любование вещными частностями:
Все мне радостно и ново:
Запах кофе, люстры свет,
Мех ковра, уют алькова
И сырой мороз газет.
(«Просыпаюсь в полумраке…»)
Однако эстетизированный мир поэта — не камерный мир. В конечном счете частность одушевлена в его поэзии именно потому, что она не обособлена, не замкнута:
И соловьи всю ночь поют из дымных гнезд
В дурмане голубом дымящего навоза,
В серебряной пыли туманно — ярких звезд…
(«Холодная весна»)
Характерны и для других стихов такие ряды явлений, в которых «низкое», малое тянется к высокому, огромному («дымящий навоз» и «пыль звезд»). Нелегкое утверждение просветленно — философского ощущения мира происходит и в поэзии Бунина.
В творчестве ряда других реалистических художников конца 900‑х и 10‑х годов социально — критическая беспощадность тоже соединяется со своеобразным созерцательно — гуманистическим складом мысли.
Так, например, в прозе Куприна. Повесть «Яма» (1909–1915) — наиболее крупное его произведение тех лет. В достаточно узкой тематической сфере — изображение проституции, быта и нравов «жертв общественного темперамента» — писатель стремится запечатлеть всю отрицаемую им общественную систему. Но именно в этой претензии на широту повесть Куприна как раз и уязвима, хотя есть в ней выразительные картины, детали, частности, обладающие острым социальным смыслом. Предчувствие «огромной, новой, светозарной жизни», что «уже у ворот» («Поединок»), сменяется в повести «Яма» представлением о почти непреоборимом социальном зле, которому если и суждено исчезнуть, то в очень далеком будущем. Полный благодарной памяти о прошедшей революции («Черная молния», 1913), писатель скептичен по отношению к близкому общественному будущему. В 10‑е годы социальный запал Куприна бывает очень сильным. Непримиримо отрицается и русская действительность, и все современное общество, томящееся под властью капитала («Жидкое солнце», 1912). Но отрицается чаще всего лишь с позиций «естественного» человека (например, рассказ «Анафема», 1913). Автору «Олеси» не чужда мысль о золотом веке в прошлом, «когда так радостно и легко жили люди… свободные и мудрые, как звери». Герои очерков «Листригоны» (1907–1911), откуда взяты эти слова, — рыбаки из Балаклавы, «простые люди, мужественные сердца», в них «чувствуется… какая — то таинственная, древняя… кровь первобытных обитателей». С пафосом непреходящих, неискоренимых ценностей существования — природы, любви — особенно тесно связываются устойчивые демократические симпатии писателя. Герои его известных рассказов о любви, стилизованной легенды «Суламифь» (1908) и «Гранатового браслета» (1911) — «бедная девушка из виноградника» и чиновник контрольной палаты со смешной фамилией Желтков. Именно в простых людях прежде всего видит Куприн носителей исконных и добрых начал бытия.
Читать дальше