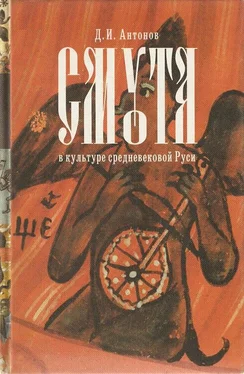К началу XX столетия опыт герменевтического анализа памятников Смуты оставался фрагментарным, причем оценочные суждения довлели над проводившимися описаниями [40]. В историографии середины XX в. были созданы отдельные работы, посвященные идеям книжников (статьи О. А Державиной, Л. В. Черепнина и др.) [41], однако по-настоящему актуальной эта проблема оказалась в конце столетия. Стремление раскрыть понятийный символический язык эпохи зачастую наталкивалось на проблему метода; в то же время в этой области удалось достигнуть ряд значимых результатов.
Особое место в историографии Смутного времени занимают работы Я. Г. Солодкина: реконструкция элементов авторских объяснений, проводимая параллельно с детальным источниковедческим исследованием памятников конца XVI — начала XVII в., стала важным вкладом в изучение эпохи [42].
Исследовательский метод Солодкина нашел яркое выражение в книге, посвященной «Временнику» Ивана Тимофеева [43]. В работе проводится комплексный анализ известного произведения Смутного времени: всестороннее рассмотрение сведений, сообщаемых автором, позволяет прояснить вопросы, касающиеся наиболее вероятного времени создания отдельных частей текста, структуры и источников произведения, биографии книжника. Определяя круг источников «Временника» и проясняя случаи бе зусловных заимствований, Я. Г. Солодкин выявил генезис некоторых фрагментов, восходящих к Священному Писанию и иным актуальным памятникам эпохи. Опыт подобного исследования крайне важен: он не только обогащает науку сведениями о создателе и структуре текста, но и вплотную подводит к реконструкции авторских объяснений и причинно-следственных связей. Вместе с тем в работе предлагается несколько иной подход, который получает при этом не совсем ясную характеристику. Цитируя А. Г. Тартаковского и ссылаясь на Я. С. Лурье, Я. Г. Солодкин утверждает, что информация памятника « всецело детерминирована условиями его происхождения » [44] (курсив мой. — Д. А .). Если эта позиция претендует на полноту в изучении Источниковых сведений, то она представляется весьма спорной, так как обретенное знание о построении текста экстраполируется здесь на область авторских смыслов и интенций: «Чем глубже мы познаем памятник в его генезисе и собственной сущности, тем адекватнее раскроется значение этой информации и тем эффективнее может быть реконструировано запечатленное в ней прошлое» [45]. Очевидно в то же время, что современники-читатели произведения не имели такого представления о тексте, которым обладает исследователь, создающий комплекс информации об источнике путем применения ряда аналитических процедур. Человек изучаемой эпохи воспринимал сообщения памятника через призму актуальных смыслов культуры; на те же ассоциации, естественно, ориентировался автор, обосновывавший свои идеи в контексте общезначимых конвенциональных моделей. Без реконструкции этих смысловых пластов извлекаемая информация вынуждена оставаться внешней по отношению к изучаемой культуре как области смыслополагания.
Представления современников Смуты оказались в центре внимания Л. Е. Морозовой, которая стремилась раскрыть идеи книжников в двух монографиях: «Смутное время в России» (М., 1990) и «Смута начала XVII века глазами современников» (М., 2000).
Исследование 1990 г. — опыт комплексного анализа публицистических сочинений Смутного времени. «В настоящей работе читатели могут проследить, как воспринимали бурные события Смуты их участники, как они осмысляли их по прошествии времени…» — говорится во вступлении [46]. Таким образом, цель историка — изучить авторские представления и причинно-следственные связи. Тем не менее исследовательская стратегия Л. Е. Морозовой весьма далека от реконструкции идей: первая глава полностью игнорирует объяснительные модели современников [47], во второй («Что думали о Смуте участники событий?») последовательно рассматриваются одиннадцать источников начала XVII столетия, однако пересказ их текстов не подкрепляется каким-либо герменевтическим анализом. Подобный пересказ, очевидным образом, ведет к модернизации Источниковых смыслов. Этим вызвана характерная оценочность при рассмотрении феноменов культуры: по мнению Л. Е. Морозовой, «автор Сказания, вероятно, не совсем объективно описал обстоятельства свержения самозванца» (курсив мой. — Д. А .), рассказ автора «Повести како отмсти…» «вряд ли соответствует истине», книжник «несомненно… сгущал краски», историку «думается», что все сказанное им — «явное преувеличение», и т. п. [48] Пересказав непростые описания царя Бориса, тщетно пытавшегося справиться с пришедшим в страну голодом, автор кратко заключает, что предпринятых царем мер «было, конечно, мало». Говоря о природе Смуты в представлении Палицына, Л. Е. Морозова приходит к весьма странному выводу: «Автор Истории отчасти понял (? — Д. А .) причины, приведшие страну к многочисленным бедам», и т. п. [49] Вполне закономерно, что читатель не получает в итоге никакой новой информации об идеях, характерных для книжности начала XVII в.
Читать дальше