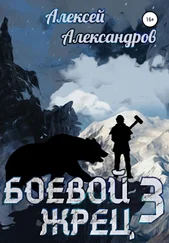Приговор, как видно, окончательный, но очевидно несправедливый, Так как не признает трагичного положения королевской власти. Ведь если в то время совершалось множество преступлений, они были не единственным деянием королевы-матери и Генриха III (если вообще можно назвать «преступлениями» решения высшей власти). Не де Гизы ли практически без суда и следствия уничтожили заговорщиков-протестантов из Амбуаз? А если бы не умер Франциск II, принц крови и глава гугенотов Луи де Конде, осмелился бы кто-нибудь на подстрекательства? Если на Екатерине и на герцоге Анжуйском полностью лежит вина за Варфоломеевскую ночь, как на Генрихе III смерть Генриха де Гиза, то П. де Вессьер обходит молчанием главное. События 24 августа 1572 года и 23 декабря 1588 года были лишь неизбежным следствием политической необходимости. В тех крайних случаях ни Генрих III, ни его мать не имели средств и возможности прибегнуть к обычным законодательным мерам. Каковы бы ни были мотивы их действий, нельзя забывать, что они пользовались совершенно законным королевским правом.
Ясно, что решение приступить к расправе над гугенотами, превратившейся в кровавую резню, не могло бы осуществиться без формального разрешения Карла IX по настоянию его матери. Только король имел право дать его, и, поскольку он это сделал, разрешение было законным ipso facto (само по себе). Таким же образом Генрих III здраво рассудил, следует ли арестовывать Генриха де Гиза и начинать процесс. Он принял известные меры против герцога только после того, как убедился в невозможности достичь цели законодательным путем. В те времена повсеместного и слепого насилия, когда католики были не менее жестоки и не менее обагрены кровью, чем гугеноты, монарх, fons justitiae (источник справедливости), не мог действовать иначе, кроме как исключительным методом. Когда охвачена политикорелигиозной страстью армия — единственная власть на земле, можно ли упрекать короля за то, что он был загнан в тупик и принужден своими подданными к мерам, которые, несмотря на видимость насильственных действий, были тем не менее законно обоснованы монархическим правом.
Наконец, совершенно забыта ответственность всех его подданных и наиболее высоко стоящих знатных вельмож со всеми своими сторонниками. Они легко выходили за границы законности, не колеблясь становились монархами, узурпировали королевскую власть или конфисковывали ее к своей выгоде. Ослабление королевской власти и правопорядка предоставило им свободное поле деятельности. За этот упадок в первую очередь ответственны подданные Его Величества.
Итак, объяснение поведения королевы Екатерины и ее сына следует искать не в Италии, а главным образом в безвыходном положении внутри страны: радикальная оппозиция довела свойственное французам внутреннее разделение до крайности.
Королева-мать не больше своего сына нуждалась в принципах и методах Полуострова. Напротив, в невероятно сложной ситуации она поддерживала себя и своих детей средствами французской монархии. Едва выйдя из пеленок, молодой Александр-Эдуард очень рано должен был осознать, что судьба, заставив его родиться в 1551 году, не дала ему «попасть в нужный век». Ныло ли для ребенка, принца крови, что-нибудь тяжелее раздоров, в которые он оказался втянут и объектом которых он стал?
Александр-Эдуард между католиками и протестантами
Александр-Эдуард со своими братьями и сестрой Маргаритой присутствовал на бракосочетании своей сестры Елизаветы и Филиппа II Вновь он встретился с ними 13 августа 1559 года в Сен-Дени на похоронах Генриха II. Контраст между двумя церемониями был резок. Коронование нового короля Франциска II 18 сентября в Реймсе заставило их шагнуть от траура к эфемерному веселью. На обратном пути, прежде чем отправиться в долину реки Луары, двор остановился на некоторое время в Буа де Венсен. Так называли замок, который позднее должен был стать убежищем королевской семьи и местом смерти Карла IX. Молодой 16-летний король Франциск II напрасно демонстрировал намерение оставить за своей матерью управление государством. Екатерина предусмотрительно тушевалась перед кардиналом Лотарингским и Месье де Гизом «Великим», герцогом Франсуа, так как она хорошо понимала, что еще недостаточно сильна, чтобы брать власть в свои руки.
Покинув Блуа в 1559 году, двор остановился в Амбуаз. там молодой герцог Ангулемский впервые узнал о заговоре гугенотов. Речь шла о свержении короля, королевы-матери и аресте де Гизов. У истоков дела стоял не кто иной, как принц крови Луи де Конде, подкупленный Англией, так как королева Елизавета жаждала вернуть себе Кале. Осуществление заговора, продуманного и составленного в Женеве, было поручено знатному и неимущему гугеноту Ля Реноди. Последний воспользовался лживыми обвинениями сочинителя пасквилей Франсуа Османа, бывшего на содержании Бурбонов. В быстро прославившемся памфлете «Тигр Франции» Ф. Отман разоблачал тиранию де Гизов и сравнивал кардинала Лотарингского с кровожадным хищником. Любопытно, чтет немецкие лютеране стали теми, кто, почувствовав ветер заговора и выражая ему неодобрение, его провалили, войдя в контакт с секретной испанской полицией, которая в свою очередь информировала братьев Перрено (испанского посла во Франции Шантоне и министра Филиппа II, кардинала Гранвельского). Они предупредили де Гизов. И когда парижский адвокат и реформатор Де Авенель, приютивший у себя Ля Реноди, переговорил с секретарем герцога Франциска, тот наконец убедился в реальности опасности и объявил в замке Амбуаз осадное положение, чтобы отвести грозу. Екатерина почувствовала необходимость опереться на Шатийонов. В союзе с ними и канцлером Оливье она издает первый Амбуазский эдикт (2 марта 1560 года), который отменял наиболее суровые меры эдиктов Генриха II по репрессиям против ереси. Если как следует изучить его текст, то становится очевидно, что он является первым шагом к Нантскому эдикту, как, впрочем, и Нимскому эдикту 1629 года. Впервые во Франции политика и религия оказались разделенными: отныне исповедание кальвинизма не было посягательством на благополучие государства. Нет ничего менее итальянского, чем этот эдикт.
Читать дальше
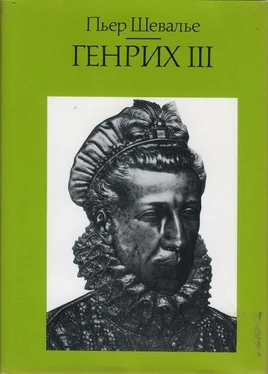

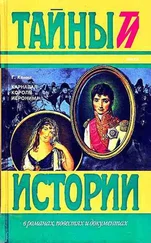

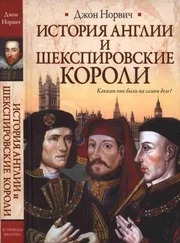
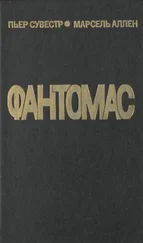
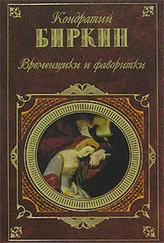
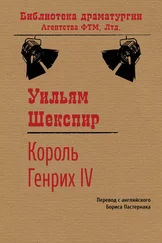
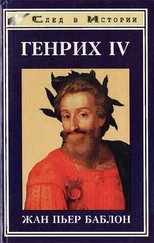
![Пьер Бенуа - Атлантида. Забытый. Прокаженный король. Владелица ливанского замка. Кенигсмарк. Дорога гигантов. Соленое озеро [компиляция]](/books/420929/per-benua-atlantida-zabytyj-prokazhennyj-korol-thumb.webp)