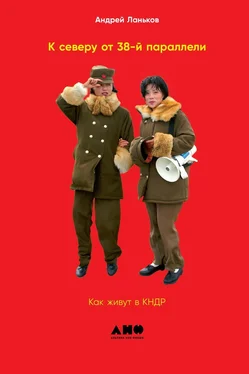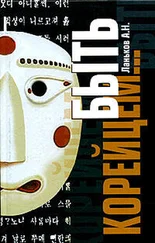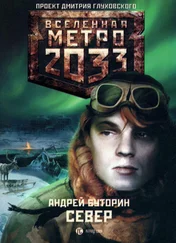Соответственно, нет ничего удивительного в том, что людей с низким сонбуном (потомков и близких родственников политзаключенных, например) вообще не призывают на военную службу. То же самое можно сказать и о семьях репатриантов из Японии, вернувшихся в Корею в 1960-х годах. За редким исключением, они считаются неблагонадежными, и оружия им не доверяют. Таким образом, получается, что в армии не служат выходцы из самых привилегированных и, наоборот, самых дискриминируемых социальных слоев.
Еще в средней школе подростки регистрируются в местном военно-мобилизационном комитете, находящемся в ведении Министерства народных вооруженных сил. Они проходят медосмотр, с ними проводят собеседование, а тех, кого берут в элитные подразделения, ждет проверка их родственных связей. В КНА необычайно высока доля женщин: они составляют около четверти всех военнослужащих. Раньше женщин не призывали в армию, хотя их желание служить на добровольной основе всячески поощрялось. Девушек армейская служба привлекает теми же возможностями в области образования, продвижения по службе, членства в партии. Призыв женщин на военную службу был введен в 2015 году – правда, служат они много меньше мужчин. Пока неясно, как на практике будет работать эта новая система.
В последнее время военная карьера, похоже, теряет свою былую привлекательность: снабжение и условия службы ухудшились. Вдобавок снизилась и популярность традиционных постов, для которых служба в армии была необходимым стартовым условием. Зачем проводить десять лет в тяжелом солдатском труде, чтобы получить надежду на превращение в мелкого чиновника еще через десять лет, когда можно заняться собственным бизнесом или найти работу в частном секторе? Этот вопрос все чаще задают себе северокорейские новобранцы – и, соответственно, их желание идти в армию снижается.
Социализм советского образца, скажем прямо, не отличался особой экономической эффективностью, и опыт Северной Кореи, которая в конце 1940-х скопировала советскую систему, а в конце 1950-х ужесточила ее даже по сравнению с оригиналом, хорошо показывает, почему государственно-социалистический эксперимент в итоге потерпел неудачу. Однако общая экономическая неэффективность системы не означает, что все государственно-социалистические режимы потерпели неудачу во всех сферах государственного управления. Мир сложнее любых черно-белых схем. Одной из областей, в которых социалистическая система работала хорошо, было здравоохранение или, точнее, базовое медицинское обслуживание (с «высокой» медициной ситуация была не столь радужной). Спору нет, пропаганда иногда преувеличивала успехи в этой области, но они тем не менее были более чем реальными. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в социалистических странах в целом была несколько выше, чем в капиталистических обществах с таким же уровнем дохода на душу населения. То же самое можно сказать и о младенческой смертности и многих других ключевых показателях здоровья населения.
Северная Корея не стала исключением из этого правила. До того как голод 1990-х годов разрушил экономику страны, средняя ожидаемая продолжительность жизни на Севере была довольно высокой. По данным Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения, в 1985 году она достигла уровня в 67,9 года, что тогда почти не отличалось от ожидаемой продолжительности жизни на гораздо более процветающем Юге (68,8 года). Во время голода 1996–1999 годов средняя продолжительность жизни заметно сократилась, упав до 64,5 года, но потом ситуация стала выправляться, и в 2016 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в КНДР составила 71,7 года. Впрочем, разрыв с Южной Кореей за эти годы ощутимо вырос: в 2016 году в Южной Корее этот показатель составил 82,2 года.
По данным Всемирного банка, в 2016 году детская смертность в КНДР составляла 15,1 случаев на 1000 рождений. Это почти в два раза выше, чем в Китае (8,5 случаев), и в пять раз выше, чем в Южной Корее (2,9), но в несколько раз ниже, чем в большинстве развивающихся стран. В Индии, например, детская смертность в 2016 году была вдвое выше, чем в КНДР (33,9 случаев против 15,1), хотя по уровню ВВП на душу населения Индия превосходила КНДР в два раза. Интересно, что в 1987 году, когда по уровню ВВП на душу населения Север уже отставал от Юга в три-четыре раза, детская смертность в КНДР была лишь незначительно выше, чем на Юге (27,7 против 20,5 случаев на 1000 рождений). Сейчас разрыв, как было только что сказано, существенно вырос.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу