И уход Витте от власти в августе 1903 года был в конечном счете той переменой министерства в русской форме, которая совершенно неизбежно вытекала из изменения экономической коньюнктуры, — из изменения относительного удельного веса внутри массы русских капиталистов. Центр тяжести от промышленного капитала перешел опять к капиталу торговому. Это и выразилось в том, что интересы восточной политики, интересы внешней политики направились по тому пути, по которому нужно было и выгодно было итти для русского торгового капитала. Тут приходится вспомнить значение Сибири как колонии и постройку, отчасти в связи с этим, Сибирской железной дороги [6-4]. Характерно, что Сибирь как колония начинает интересовать русское правительство и русский капитализм как раз в период наиболее низкого стояния хлебных цен, когда России было чрезвычайно важно во что бы то ни стало увеличить количество сырья, которое она выбрасывала на хлебный рынок, потому что это сырье стоило все дешевле, и нужно было найти новые районы добычи этого сырья: именно тот самый Вышнеградский, который произнес знаменитую фразу: «сами не доедим, а вывезем!», — он является инициатором Сибирской железной дороги. Сибирская железная дорога — я об этом говорю в своей книжке — дала громадный толчок и развитию промышленного капитализма поскольку она создала условия для колоссального развития русского металлургического производства, вызванного той же самой постройкой железной дороги. Но она сама была делом капитализма торгового. В первое время торговый капитализм тут добивался, так сказать, минимума. У него аппетиты в этой области не разгорались, но, по мере того как цены на сельскохозяйственное сырье стали повышаться, как создалась новая конъюнктура хлебных цен, — по мере этого русский торговый капитал, оживая, начинает все более и более активно действовать в этой области. Тут чрезвычайно любопытно опять-таки дать маленькое хронологическое сопоставление. Перелом хлебных цен приходится на промежуток с 1894 до 1897 г. Если мы возьмем хлебные цены на рожь, то они будут такие: 1894 г. 41 коп. за пуд, 1895 г. — 44 коп., 1896 г. — 45 коп., 1897 г. — 61 коп. (резкий прыжок кверху) Пшеница: 1894 г. — 51 коп. за пуд, 1895 г. — 57 коп., 1896 г. — 72 коп. (скачок несколько раньше), 1897 г. — 93 коп. за пуд. И как раз на этот период, 1894 —1897 г. г., падает московская конвенция с Китаем 1896 г., которая открывает русским железным дорогам выход к незамерзающим гаваням Южной Манчжурии. «Как раз именно в мае 1896 г., во время коронации Николая II, с Ли-Хун-Чангом за очень крупную взятку, в размере приблизительно полмиллиона рублей, была заключена эта знаменитая конвенция, которая одновременно удовлетворила промышленников, открывая перспективы постройки новой железнодорожной сети, и в то же время русский торговый капитал, ибо она открывала русскому сырью, сибирскому, выход к незамерзающему морю. Вам покажется это наглядной несообразностью. Казалось бы, раз имеется Сибирская железная дорога, проще гораздо возить сырье прямым путем по железной дороге на Запад, нежели кругом всей Азии и всей Европы кружить его на пароходе. Но тут надо иметь в виду, что пароходные фрахты в то время, да отчасти и теперь, хотя в меньшей пропорции, были в 25 раз ниже железнодорожных. За ту цену, за которую по железной дороге можно провезти тысячу верст 1 пуд, на пароходе можно было провезти 25. пудов, и вы догадываетесь, что ежели бы даже на пароходе везти сырье приходилось в 5 раз более длинным путем, чем по железной дороге, то все-таки получалась бы огромнейшая выгода. Чрезвычайно характерно это совпадение момента перелома конъюнктуры на мировом рынке и момента русского стремления к незамерзающим гаваням на Дальнем Востоке.
Вот в какой обстановке Россия подходила к японской войне. Во внешней политике дело сводилось к тому, чтобы захватить Манчжурию, Корею, целый ряд незамерзающих гаваней на Дальнем Востоке, открыть их для русского экспорта и, значит, для русского экспортного и русского торгового капитала найти чрезвычайно выгодную дорогу, единственный, кстати сказать, в коммерческом смысле выход из Восточной Сибири, восточнее Енисея, потому что вывоз по железной дороге стоил бы слишком дорого. Тут нужно было где-то иметь гавани на Востоке, через которые все это могло провозиться.
Таким образом русско-японская война, будучи авантюрой по типу ведения, будучи предприятием озорным, плохо рассчитанным и плохо слаженным, тем не менее, была совершенно закономерным явлением: с железной необходимостью наталкивала нас диалектика русского экономического развития на дальневосточную войну, на войну с Японией, которая являлась нашим соперником, которая стояла на дороге этой эксплоатации Сибири Россией.
Читать дальше
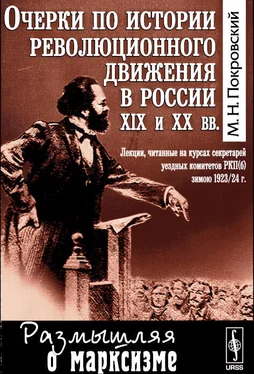






![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)



