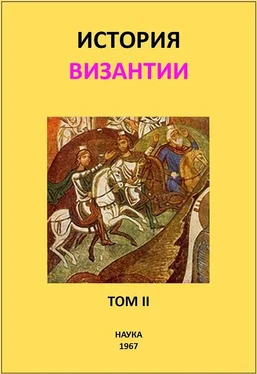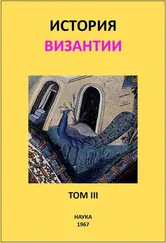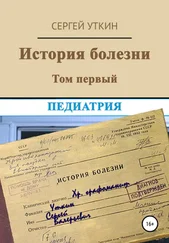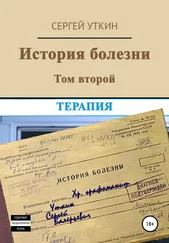Во-вторых, в VII в. значительно сократилась роль принудительных форм торговли, столь характерных для поздней Римской империи. Исчезла государственная повинность по транспортировке продовольственных грузов, лежавшая на земледельцах. О коллегии навикуляриев больше ничего не слышно — снабжение хлебом столицы и крупнейших городов перешло в руки независимых купцов [68] О снабжении хлебом в Византии см. J. L. Теаll. The Grain Supply in the Byzantine Empire, 330–1025.— DOP, 13, 1959, p. 90.
.
Поскольку византийские города оставались средоточием товарного производства, они являлись и центрами ростовщичества. Осуждаемое церковью, ростовщичество тем не менее продолжало существовать, и необходимость уплачивать хотя бы часть налога в денежной форме составляла предпосылку для широкого распространения кредитных операций. Процентные ставки были чрезвычайно высокими, доходили до 100 % годовых, и жалобы на суровость ростовщиков, подобных диким зверям, без конца повторяются в агиографии VIII–IX вв. Впрочем, размах кредитных операций, как и размах торговли, сокращается к VIII в. Исчезают крупные ростовщические конторы — их место занимают либо монастыри, ссужавшие нуждающихся деньгами и продуктами, либо же сидевшие на рынках трапезиты-менялы, располагавшие сравнительно ограниченными средствами.
В зависимости от тех методов, которыми город преимущественно оказывал влияние на периферию, можно различать типы византийских городов. Город мог экономически воздействовать на периферию как административно-фискальный центр, как церковный центр, как опорный пункт обороны, как город-гавань, как выдающийся пункт на путях транзитной торговли и, наконец, как центр ремесленного производства и торговли, в особенности, если в подгородном районе были солеварни или велась добыча металла. Крупнейшие города, μεγαλοπολεις, одновременно были и административными, и церковными, и военными, и ремесленно-торговыми центрами.
Состав городского населения был крайне пестрым. Состоятельные городские верхи — это собственники домов, кораблей, земельных наделов, по-прежнему владевшие рабами. Экономический спад затронул в первую очередь эту группировку: все заметнее в ее рядах становилась тенденция к тезаврации своих средств, к изъятию золота и серебра из обращения, к натурализации доходов. Опасаясь торгового риска в трудных условиях, эти потомки куриалов охотно вливаются в ряды императорского чиновничества и в церковную иерархию. Передача средств монастырям казалась в ту пору наиболее надежным помещением денег. Городские верхи все теснее сливались с монашеством, а их богатства материализовались в драгоценной церковной утвари, в окладах икон, украшенных золотом и жемчугом.
Большинство ремесленников работало в одиночку: одни из них имели свои мастерские (эргастирии), другие трудились прямо на площадях или в крытых портиках. Эргастирии служил одновременно и лавкой, а не имеющие мастерской ремесленники торговали своим товаром вразнос. Более зажиточные мастера и купцы использовали труд одного-двух рабов или мистиев.
Плебейские массы города состояли из мистиев, моряков, грузчиков, строительных рабочих, которые далеко не всегда имели заработок, да и самый заработок едва мог обеспечить полуголодное существование. Разница между этой категорией лиц, живших наемным трудом, и наводнявшими города деклассированными элементами (нищими, ворами, проститутками, беглыми рабами, монахами-расстригами) была весьма условной. Те и другие нуждались в подачках государства и церкви.

Светильники. Музей в Коринфе
Позднеримская система городского самоуправления продолжала существовать, несмотря на то, что императорские чиновники и, особенно, епископы активно вмешивались в решение местных дел. Чем дальше от столицы, тем более самостоятельным было муниципальное управление: горожанам приходилось созывать собрания, возводить стены, создавать милицию для организации обороны. В окраинных городах протевонты πρωτευοντες осуществляли всю полноту власти, и подобные города имели тенденцию к обособлению, к превращению в независимые республики. Венеция, южноитальянские центры, далматинские города, Херсон управлялись местной городской знатью, фактически мало зависевшей от центрального правительства. Перед империей могла возникнуть угроза превращения в конгломерат городов-государств [69] См. подробно: М. Я. Сюзюмов. Борьба за пути развития феодальных отношений в Византии. — «Византийские очерки». М., 1961, стр. 43 и cл.
.
Читать дальше