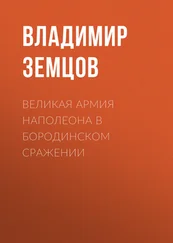В Западной Германии ситуация была иной. Хотя принято считать, будто вплоть до 1960-х гг. в Западной Германии господствовал тезис о том, что нацистская диктатура являлась разрывом с национальным прошлым, но обращение к тематике наполеоновской эпохи дает несколько иную картину. Скажем, такой влиятельный западногерманский историк, как Риттер, на протяжении 2-й половины 40-х – середины 60-х гг. неизменно проводил идею об исторической связи между гитлеровским фашизмом и тем национализмом, который был связан «с полями битвы под Лейпцигом». «Авантюристам» типа Гнейзенау, пытавшимся мобилизовать массы, Риттер противопоставлял честных солдат-профессионалов, которые при любых обстоятельствах неизменно руководствовались чувством долга [212]. «Разгулу народного духа» западногерманские историки до известной степени противопоставляли организующую и сдерживающую роль монархий [213]. Но это не было реанимацией «прусской легенды». Германия, будь то «революционная» или «прусская», не противопоставлялась Западу, а рассматривалась как его органическая часть.
Подобно тому, как после крушения наполеоновской Франции А. де Виньи поднял вопрос о чести и достоинстве солдата, о чести и достоинстве воина заговорили после 1945 г. и немцы. Пытаясь снять с немецкого солдата ответственность за преступления Третьего рейха, западногерманские авторы обратились к более ранней истории, стремясь показать немецкую армию носителем высших моральных качеств [214]. Решению этой задачи во многом были подчинены издания, где затрагивалась тема Русского похода и Бородина [215]. Эти книги добавляли некоторые детали, но сколь бы то ни было серьезно не влияли на представления немцев о Бородине. Своеобразным отражением новой Германии, в чем-то ставшей интегрированной частью единого Запада, явился выход работ англичанина Дигби Смита, который многие годы служил в натовских структурах в Западной Германии и публиковался под немецким псевдонимом Отто фон Пивка [216]. Его взгляды на Бородино в целом вписываются в англо-американскую традицию, но отличаются большим вниманием к немецким источникам и обнаруживают теплую симпатию к немецким солдатам Великой армии.
В последние десятилетия немецкие историки не опубликовали ни одной работы, которая бы могла свидетельствовать о существовании сегодня хотя бы поверхностного интереса к теме Бородина [217].
Итак, Бородинское сражение стало для немцев важнейшим элементом коллективной памяти и коллективных представлений о прошлом. С удивительным постоянством «призрак Бородина» возрождался всякий раз, когда немецкий народ оказывался перед той или иной важной проблемой в своей истории. Витавший над полем Бородина немецкий национальный дух принимал в дальнейшем самые разнообразные формы: от «прусско-гогенцоллерновской идеи» до антизападного и антирусского национализма и прорусского социализма. Данный феномен может быть истолкован либо как вольное обращение немецких интеллектуалов и политиков с податливой массой «исторической памяти» Бородина, либо как результат многообразия сильнейших импульсов, посылаемых из прошлого немецкими солдатами Бородина своим потомкам-соотечественникам. Так или иначе, многочисленные интерпретации Бородина были связаны с осмыслением таких важнейших проблем истории, как взаимоотношения Германии и Франции, Германии и России, как место и роль Германии в формирующихся общеевропейских структурах, и с рядом других. Интерес к событиям 1812 года в германской историографии сохраняется и по сей день, хотя проявляется он и не столь интенсивно, как это было нередко ранее.
1.2.2. «Польское» Бородино
Среди многочисленных, но не всегда верных союзников Наполеона особым рвением и последовательностью в борьбе с русскими в 1812 г. отличались поляки. Это была их война, война за свободу, «вторая польская война», как назвал ее Наполеон в своем обращении при переходе Немана. Большинство поляков всерьез воспринимало тезис наполеоновской пропаганды о том, что поход 1812 г. – это поход против варварства, который закончится наступлением счастливой эпохи в истории человечества [218]. Готовясь к битве под Москвой, а затем вступая в русскую столицу, многие из поляков обращались к картинам далекого прошлого, вплетая происходившие события в ткань своей национальной истории. «Можно понять, какое испытывал я чувство при виде древней столицы царей, возбудившей во мне столько великих исторических воспоминаний, – обращался под влиянием трагических польских событий 1830–1831 гг. к своим ощущениям 1812 г. Роман Солтык, состоявший в день Бородина адъютантом генерала М. Сокольницкого. – Над ней в начале XVII столетия победоносные поляки водрузили свое знамя, и перед ним преклонялся московский народ, признав своим государем сына нашего короля. И вот их потомки, сражаясь в фалангах Наполеона, пришли во второй раз осенить ее своими победоносными орлами. Все эти победы моих соотечественников, старые и новые, сливались в одно целое в моем воображении, и я припоминал деяния Ходкевичей, Жолкевских и Сапег, заставлявших трепетать Московское царство» [219].
Читать дальше
![Владимир Земцов Великая армия Наполеона в Бородинском сражении [litres] обложка книги](/books/395883/vladimir-zemcov-velikaya-armiya-napoleona-v-borodins-cover.webp)
![Виктор Устинов - Великая Армия, поверженная изменой и предательством [К итогам участия России в 1-й мировой войне]](/books/31118/viktor-ustinov-velikaya-armiya-poverzhennaya-izmenoj-i-predatelstvom-k-itogam-uchastiya-thumb.webp)