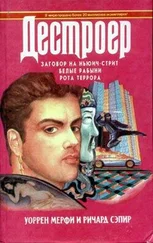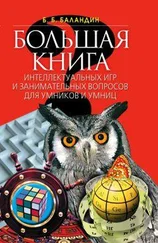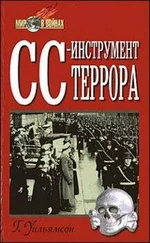Вместе с тем, преподавая в Варшавском университете и в Институте философии Академии наук, Б. Бачко не мог и не хотел оставаться в стороне от происходивших в Польше идейных и интеллектуальных процессов; наметившееся со второй половины 1950-х годов усиление партийного диктата в науке сказалось и на его работе. Вместе с друзьями и коллегами он задавал тон в том, что стало впоследствии называться «Варшавской школой истории идей» [251], однако власти выступили с критикой в адрес ряда ученых, принадлежавших к этой «школе», обвинив их в «ревизионизме». С середины 1960-х годов начались репрессии: обрушившись на «ревизионизм и сионизм», руководство партии и страны развязало тем самым одновременно и антиинтеллектуальную, и антисемитскую кампанию. Б. Бачко был исключен из ПОРП, уволен из университета, оказался лишен права публиковать свои работы, другим ученым было запрещено ссылаться на его труды; «это было совершенно по- оруэлловски». В тот непростой момент его поддержали коллеги: в декабре 1969 г. по приглашению Жана Эрара Б. Бачко переезжает во Францию и начинает преподавать в университете Клермон-Феррана, а затем, с 1973 г., в университете Женевы.
К этому времени его интерес к философии уже прочно сопрягался с интересом к истории, «свободным от всякого идеологического давления и неподдельным». Проблемы, над которыми он размышлял, — взаимоотношения личности и общества, интеллектуала и его времени, степень автономности этики от идеологии — можно было решать на материале едва ли не любой эпохи. Бронислав Бачко избрал для себя Францию XVIII века. От изучения Руссо он переходит к изучению утопий; вернее, как заметил сам автор, никуда он специально не переходил, а просто «обнаружил утопию в Руссо». «В моем труде, — добавляет он, — речь шла о том, чтобы прочитать тексты заново в соответствии с их эпохой, а не только нашей. Определить место текстов, персонажей, социальных групп, институтов, событий — чего угодно, но вместе с тем и включить их в определенный контекст, навязать господству диахронии синхронность».
Так родилась книга «Огни утопии» [252]. Ее название автор поясняет следующим образом: «Когда огни утопии освещают горизонт, горизонт ожиданий и индивидуальных или коллективных надежд, они бросают новый свет на социальный пейзаж. И люди, и предметы оказываются захвачены потоком этого яркого света. Хотя его интенсивность может быть различна, эффект оказывается одинаков». Уже на страницах этой монографии встречаются не только имена Просветителей, но и Жильбера Ромма и Фабра д'Эглантина, отдельные главы автор посвящает революционному Парижу и новому календарю. «Целостность и оригинальность Просветителей, — рассказывает Б. Бачко, — отнюдь не ограничиваются несколькими затверженными клише: антиклерикализм, разум, оптимизм, прогресс и т.д. Как говорил Токвиль, век Просвещения — это век сомнений и дискуссий. Культурное единство того времени, которое именуется Просвещением, складывается из характерных для его деятелей вопросов, затруднений и тревог. Если ответы разнообразны и противоречивы, то одни и те же вопросы и спорные моменты обсуждаются вновь и вновь. Эти проблемы и тревоги должна была в обязательном порядке унаследовать Революция, добавив к ним те, которые порождала она сама».
Таким образом, сама логика исследований привела Бронислава Бачко к изучению Французской революции. «Революционный период, — отмечает он, — в определенном смысле заставил воспринимать себя как гигантскую мануфактуру идей, образов и людских судеб». Одной из таких идей была как раз родившаяся на стыке утопии и Революции мысль о необходимости создания «человека обновленного», амбициозность и размах которой нередко завораживали историков [253]. Отсюда тот интерес, который возник с 1980-х годов к революционным проектам и реформам в области образования и просвещения [254]. Не избежал этого интереса и Б. Бачко: в 1982 г. он опубликовал сборник текстов [255], со страниц которого звучали слова Робеспьера и Сен-Жюста, Мирабо и Талейрана, Кондорсе и Ромма. «С самого начала, — подчеркивал автор, — в Революции проявлялось ее педагогическое призвание — обновить Нацию и сформировать новый народ, и эта миссия содержала в себе непреодолимое очарование для сменявших друг друга властей. В этом легко узнается наследие Просветителей: речь здесь идет не столько об идеях, заимствованных из того или иного произведения, сколько о восприятии педагогического порыва, пронизывающего все Просвещение, его мечты о создании новых людей, свободных от предрассудков и улучшенных настолько, насколько это позволяло их время». И далее, вплоть до наших дней, «Революция и культура», «Революция, показанная через культуру» остаются в числе любимых сюжетов автора. Не случайно, на мой взгляд, одну из более поздних статей он начнет словами депутата Конвента Дону, сказанными в октябре 1795 года: «Культура повторяла на протяжении трех последних лет судьбу Национального Конвента. Она стенала вместе с вами от тирании Робеспьера, она восходила вместе с вашими коллегами на эшафоты... » [256].
Читать дальше