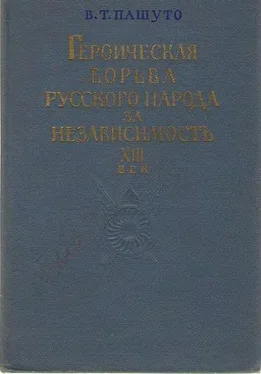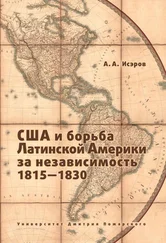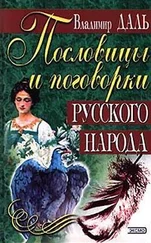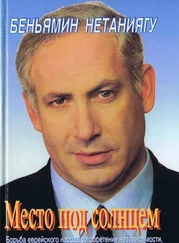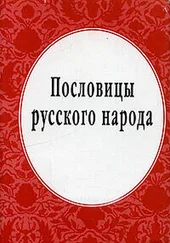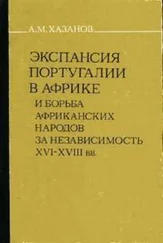Крупный город, населённый прежде всего ремесленниками, был чрезвычайно заинтересован в поддержании экономических связей внутри княжества, в защите своих прав по всей Руси и в соседних землях и обеспечении безопасного вывоза своих товаров за рубеж. Он тяготел к сильной княжеской власти и был на данном этапе фактором, укреплявшим феодализм. Но диалектика исторического развития в период феодальной раздробленности была такова, что делала положение города неустойчивым. Город оставался объектом эксплуатации со стороны отдельных групп феодалов. Поэтому князья поддерживали города, но одновременно стремились ловить в них беглых холопов; давали городам торговые льготы, но при случае «возгоняли» городской торг под контроль своей администрации; строили в городах свои «домы», но доводили поборами купцов до угрозы бегства в соседние страны. В этом — внутренняя противоречивость данного периода. Однако тенденция к установлению экономического и политического единства страны была неодолима. Монгольское нашествие нанесло тягчайший удар экономике Руси и временно приостановило этот процесс.


Глава третья
Классовая борьба
Период феодальной раздробленности характеризуется заметным обострением классовой борьбы крестьянства против феодалов в разных частях Руси. Не раз совместно с крестьянами выступала и городская беднота. Однако борьба эта носила стихийный, местный характер. Формы борьбы были весьма разнообразны: от умышленной порчи господского инвентаря и истребления скота до поджогов имений, убийства княжеских администраторов и, наконец, открытых восстаний. Эта борьба нашла некоторое отражение в памятниках юридических и публицистических, княжеских и дворянских, боярских и церковных. В оценке классовой борьбы все они были единодушны, зачастую рассматривая её как «татьбу» (воровство) и «разбой» — тягчайшие преступления против существующего «порядка». Феодалы подавляли выступления крестьян с помощью разветвлённого аппарата власти и силы законов, которые обрушивали на крестьян «поток и разграбление», убийство на месте, избиение и штрафы.
Распространённой формой крестьянской борьбы оставались побеги. Статьи о выдаче беглых крестьян неоднократно встречаются в договорах Новгорода с великими князьями; выдачу беглых крестьян предусматривали и договоры с Литвой; о выдаче холопов говорит договор Полоцка с немецким Орденом.
В Новгороде холоп епископа Луки по имени Дудика «бежа в немци», после того как в чём-то уличил своего господина, а тот, с трудом оправдавшись, учинил с ним зверскую расправу, «урезаша ему носа и обе руце» [93] НПЛ, стр. 183.
.
И в то далекое время эксплуатируемые разных стран находили общий язык в борьбе с угнетателями. О том свидетельствует такой красноречивый пример, относящийся, правда, к несколько более раннему времени. Житель Руси Моисей Угрин, попавший в руки польского короля Болеслава и уведённый им в Польшу в качестве пленного — раба, терпел большие невзгоды при дворе одной польской боярыни. Но он сумел сблизиться с некоторыми из польских холопов, и они «в тайне подаваше ему пищу», а когда в Польше вспыхнуло крестьянское восстание и крестьяне «сию жену убиша», то Моисей получил свободу и вернулся на Русь [94] См. Патерик, стр. 103.
.
Некоторые статьи «Русской Правды» были направлены на борьбу с побегами крестьян-«закупов», холопов; холопов карали за побег по усмотрению господ, а лично зависимых крестьян превращали в холопов [95] См. Правда Русская, I, М.—Л. 1940, ст. 32, 56, 112.
.
В публицистике того времени можно найти черты, характеризующие положение бедняка в феодальном мире, где по словам Даниила Заточника, «богат возглаголеть — вси молчат и вознесут его слово до облак; а убогий возглаголеть — вси на нь кликнуть». Даниил знал, что такое работное ярмо, так как, по его словам, сам некогда «под работным ермом пострадах» и понял, что горьки «работные хлебы», как полынь.
Из взаимных обличений идеологов отдельных групп феодалов можно почерпнуть некоторый материал о положении трудящихся. Игумен Феодосий, выставляя церковников в качестве «благодетелей» народа, говорил киевскому князю, что княжеские холопы «многажды же и биеми суть от приставник…» [96] Патерик, стр. 40.
Читать дальше