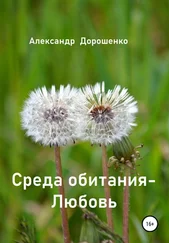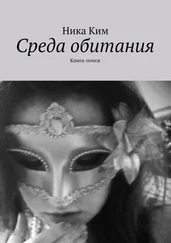Помимо существовавшего идеала скромности, видимо, играла роль и реальная политическая ситуация. Уже в это время видно, что хотя государь и выглядит (обязан выглядеть) перед народом как всемогущий монарх, но реальный порядок принятия решений имеет коллективный характер. Поэтому в указах, адресованных политической элите, император столь часто утверждает, что без помощи царедворцев он не смог бы управлять страной должным образом. Тем не менее для нерадивых подданных он – страшная сила, и невыполнение государева указа является тягчайшим преступлением. В то же самое время повелений, которые можно было бы квалифицировать как самодурство, японская ситуация порождает намного меньше, чем европейская.
В указах, посвященных различным природным бедствиям, император часто принимал на себя ответственность за расстройство баланса природных сил. Это объясняется недостатком императорского дэ.
Когда полили затяжные дожди, император Хэйдзэй (774–824, на троне 806–809) подчеркивает, что несет за это персональную ответственность [81]. При введении нового девиза правления государыня Сётоку заявляет: «Мы, недостойные, заняли драгоценный трон. Нет у нас добродетельности, чтобы приобщать [народ] к культурности, плохое случается часто. Часто случаются болезни, из года в год не вызревает урожай. Имуществу людей наносится ущерб, жить людям негде – сердце Наше болит» [82]. Столь же критично настроен по отношению к себе и государь Конин (709–781, на троне 770–781): «Ноша на Нас тяжелая, ступаем по тонкому льду, смотрим в пучину. Наверху – не умеем сообразоваться со временем, угадав желания Неба; внизу – не умеем вскормить народ, как это делают с детьми. Постоянно стыдимся малости своей добродетельности, в сердце Нашем нет цветения. День каждый желаем скромности – отказываемся от еды, носим одеяния тонкие. Хоть и провозгласили Мы в стране закон о запрете убийства живого, хоть и отдали двору повеление о помиловании преступников, болезни продолжают терзать людей, природные бедствия продолжают грозить. Не можем найти себе места – так долго терзается Наше сердце. Но если заповеданное нам учение Будды откликнется на Наши желания, тогда страданиям непременно настанет предел и бедствия прекратятся немедленно. А потому желаем почтить просветленного [Будду] и так избавиться от напастей» [83].
Примеры такого рода, когда император возлагал на себя ответственность за расстройство баланса природных сил, можно множить и множить. В указах он постоянно говорит о том, что его тело дрожит, а сам он испытывает стыд – ведь у него явный дефицит добродетельности и потому он испытывает ужас – ведь это грозит новыми и новыми природными бедствиями. В то же самое время государь – единственный, кто в состоянии восстановить природный баланс. Но для этого ему нужно постоянно держать себя «в ритуальной форме». Признание ответственности государя за «нормальное» течение природных и социальных процессов приводило к детальнейшей регламентации его поведения. Этих регламентаций намного больше, чем у любого из его подданных. Помимо многочисленных ритуальных обязанностей он должен был соблюдать строгие запреты в отношении речевого и телесного поведения, одежды, пищи, передвижения (в случае выезда за пределы дворца гадатели разрабатывали «безопасный» маршрут, позволяющий избегнуть воздействия неблагоприятных сил) и т. д. Император соблюдает множество табуаций, чтобы избежать ритуального «загрязнения», регулярно проводит ритуал очищения (мисоги).
Боязнь осквернения была огромна. Когда воры забрались в продовольственный склад дворца, государевы гвардейцы обнаружили и окружили их, но, поскольку близилась церемония интронизации, ворам дали возможность скрыться, так как побоялись, что они от отчаяния наложат на себя руки, что может сказаться на незапятнанности государя [84]. Обнаружение головы мертвеца в окрестностях дворца привело к полному параличу церемониальной активности двора и отмене множества ритуалов – за исключением ритуалов очищения. После этого на территории дворца случились собачьи роды, что еще более усугубило ситуацию (роды как у людей, так и у животных считались источником ритуального загрязнения). В другой раз, когда на территории дворца снова нашли голову покойника, пришлось отменять отправку приношений в святилище Исэ [85].
Наиболее частым случаем ритуального «загрязнения» двора, которое фиксируется в источниках, являлась смерть. Это и кончина людей (и тогда объявляется траур), но самым частым случаем являлась собачья смерть, которая не являлась, похоже, препятствием для дальнейшего разведения этого домашнего животного. О кошачьих же смертях почему-то ничего не сообщается.
Читать дальше
![Александр Мещеряков Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения] обложка книги](/books/393699/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani-cover.webp)

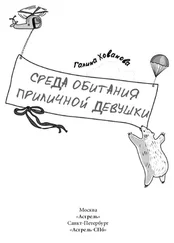
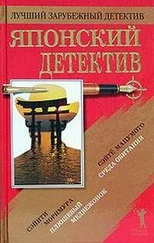
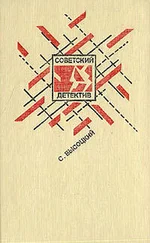
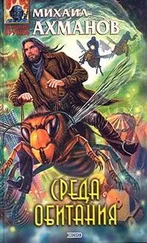
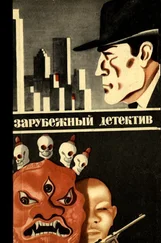
![Иоганн Брандштеттер - Бабочки. Основы систематики, среда обитания, жизненный цикл и магия совершенства [litres]](/books/436983/iogann-brandshtetter-babochki-osnovy-sistematiki-s-thumb.webp)