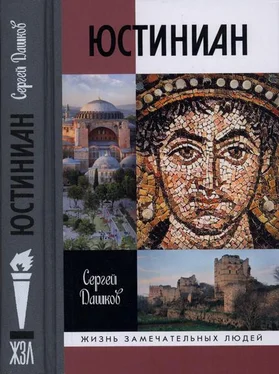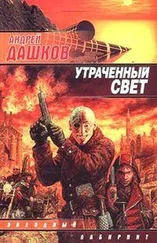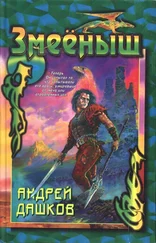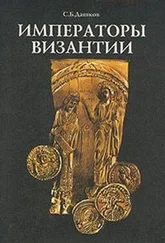Хотя наверняка от занятий науками молодого, здорового деревенского парня, разом переместившегося из далекой деревни в блестящую столицу, могли отвлекать всякого рода «прельстительные стремления» и соблазны.
Начнем с публичных зрелищ. Они были одним из неотъемлемых атрибутов античности. Римская империя поставила производство зрелищ на невиданную для греков высоту: помимо театра, появились цирк и ипподром. Гладиаторские бои не были изобретением римлян, но именно у них приобрели особую популярность.
Посещение зрелищ считалось и правом человека (речь идет именно о свободном человеке: раб как «мыслящее орудие» в подобных категориях не рассматривался), и, в каком-то смысле, показателем его общественной «нормальности». В Древней Греции к гражданину, который не ходил бы в театр, а в Древнем Риме — в цирк, на гладиаторские бои или колесничные бега, отнеслись бы если не с сожалением, то наверняка с подозрением.
В Византии остались театр и цирк (где проводились травли зверей и спортивные состязания). Но города обеднели: лишь крупные могли позволить себе проведение колесничных бегов или поддержание в порядке театров. В Константинополе же было и то и другое. Правда, в византийском театре уже не ставили Софокла и Еврипида. На сцене царила, прежде всего, грубая комедия, мим, с шутками, что называется, «ниже пояса», либо музыкальные и танцевальные номера. Этот «театральный продукт» народ и потреблял, а с творчеством древнегреческих классиков образованную публику теперь знакомили книги.
Государство использовало развлечения для поднятия собственного престижа. Фраза Ювенала «Panem et circenses» — «Хлеба и зрелищ!» — стала крылатой при обозначении чаяний простого народа. Соответственно, расходы на проведение игр (не всегда, но как правило) брала на себя власть — и горе было той, которая этим пренебрегала! Вступление в должность консула или претора требовало от человека обязательных трат на общественные нужды, львиная доля которых уходила на игры и состязания.
Церковь зрелища осуждала, хотя и терпела. Впрочем, со временем именно под влиянием христианской морали правила зрелищ изменились. Уже начиная с Константина, императоры Востока не одобряли гладиаторские бои, и, видимо, к концу IV столетия те отошли в прошлое. На Западе, где схватки человека с человеком на потеху толпе всё еще продолжались, их официально прекратили в начале V века, при Гонории. Император Лев I не разрешил устраивать зрелища в святой день воскресенья. Анастасий в 499 году запретил показывать борьбу гладиаторов с дикими животными, чем фактически ликвидировал эту профессию.
Развлечения и христианство [124] Данное отступление призвано помочь читателю составить хотя бы общее представление о той морально-этической атмосфере, в которой существовал Петр Савватий как гражданин империи. К сожалению, краткость изложения ведет к упрощению этой сложной проблемы и утрате многих нюансов, порой важных. Это плохо, но неизбежно.
На рубеже V и VI вв. античные культура и традиции находились в особенно сложных отношениях с христианской моралью. Впрочем, в Византии период таких «сложных отношений» не кончался никогда. Христианство ценило аскезу, а греко-римская античность была ее мирской, чувственной противоположностью.
Христианство полагает мир горний выше земного [125] Совсем крайностью было манихейство, дошедшее до полного отрицания вещного мира и приравнивания его ко злу. Христианство отшатнулось от этого учения, на что потребовались века мыслительной работы и усилия тысяч людей, старательно пытавшихся найти истину. Не всем повезло так насыщенно пройти свой путь богопознания, как это сделал Блаженный Августин. Тот в своих исканиях побывал сначала ученым язычником, потом манихеем, а после стал христианином (попутно оставив несколько исстрадавшихся женщин, как минимум одной из которых он сделал незаконнорожденного ребенка), чья жизнь закончилась на посту епископа в осажденном вандалами Гиппон-Регии.
. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут» — в Евангелии от Матфея эта мысль выражена предельно понятно.
Человек же «эллинский» не видел в наслаждении большого греха. Конечно, безудержный гедонизм, непомерная тяга к излишествам осуждались и языческими философами — но именно как неумеренность, своего рода невоспитанность души. То есть свойство неприятное, но извиняемое.
Читать дальше