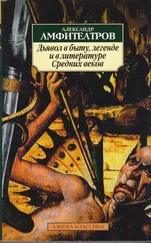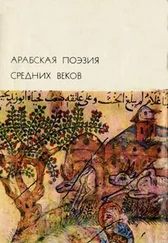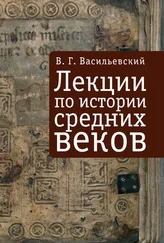Ситуацию с хроническим дефицитом всего и вся лучше всего отражают многочисленные средневековые завещания (достаточно почитать хоть последнюю волю Уильяма Шекспира), сохранившиеся до наших дней. В этих документах старательно перечисляются все предметы, находящиеся в доме, — швейные иголки, кухонная утварь, прикроватные принадлежности, носовые платки, одежда и так далее. Сейчас никому и в голову не придет завещать банку из-под соленых огурцов, а тогда этот стеклянный сосуд представлял бы немалую ценность!
Соответственно, раннесредневековое законодательство («варварские правды») обращало особое внимание на охрану движимого имущества — покушение на собственность иногда приравнивалось к убийству свободного человека, а это о многом говорит: необходимых для существования человека предметов настолько мало и они настолько редки, что компенсация за кражу влекла за собой неподъемный штраф.
На таком вот безрадостном фоне хиреет и сельское хозяйство — а тут еще похолодание, исчезновение образованных агрономов, беспрестанные войны с нашествиями и прочие фатальные неудобства. Единственным и крайне сомнительным плюсом Темных веков приходится считать резкий демографический провал: можно было эмпирическим путем на протяжении нескольких столетий отыскать какую-никакую схему, при которой население зачастую недоедало, но массово от голода не вымирало.
В действительности аграрная культура (если последнее слово вообще применимо к данной эпохе) Темных веков находилась на расплывчатой грани между собирательством и обработкой земли. Пример тому — каштан, получивший большое распространение в Европе: плоды каштана могут использоваться для производства муки, по своему качеству не уступающей ржаной. В эту же категорию мы отнесем дикую грушу и дикое яблоко — вполне возможно, одичавшие и выродившиеся со времен богатых садов времен Рима. Да и рубеж между хозяйством лесным и хозяйством культурным, возделываемым, был сильно размыт — леса, покрывавшие колоссальные площади, являлись исправным поставщиком продовольствия.
Сейчас это прозвучит странно, но прежде всего лес был пастбищем (помните упоминание желудей св. Григорием Турским?), и лишь во вторую очередь — источником древесины: если аристократы имели право охотиться в своих лесных угодьях, получая на стол мясо дичи, то простецы выпасали в богатых дубом широколиственных лесах свиней, питавшихся желудями. Основой животноводства Темных веков было разведение поросят и овец при сравнительно малом числе крупного стойлового скота — уход за коровой и ее содержание на порядок сложнее, чем присмотр за овцами или практически всеядными свиньями.
Итальянский медиевист и культуролог Массимо Монтанари в книге «Голод и изобилие. История питания в Европе» утверждает:
«…один гектар леса может прокормить одну или двух свиней, один гектар луга — нескольких овец, один гектар пашни, даже учитывая смехотворные урожаи тех времен (вплоть до XIV в. они редко превышали сам-три), дает определенно больше. Уже не говоря о том, что зерно хранится легче и дольше, чем мясо (при оптимальных температуре и влажности просо можно хранить 20 лет), из него можно приготовить более разнообразную пищу».
В условиях улучшения климата и роста населения выбор был однозначен — производство зерна. А следовательно, вырубка лесов под новые посевные площади.
Решение принято, пора браться за дело — нужно много хлеба любой ценой! Цена, как обычно, оказалась очень высокой.

Торгующие крестьяне, Альбрехт Дюрер, 1512 г. Х арактерный типаж виллана оставался неиз м енным вплоть до XIX века.
Массимо Монтанари, Фернан Бродель и Жан Фавье, историки, к чьим работам мы еще неоднократно будем обращаться в будущем, в один голос утверждают: начиная ориентировочно с VIII века во Франции начинается грандиозный по своим масштабам процесс «внутренней аграрной колонизации» за счет отвоевания у дикой природы площадей под распашку и скотоводство.
Следует напомнить, что Великий Европейский лес в эпоху Рима занимал фантастические, запредельные площади на пространстве от Урала до Испании. Миллионы квадратных километров леса с редкими вырубками или участками лесостепей. Пожелай вы добраться от района нынешней Москвы до римской Лютеции-Парижа во времена Августа или Траяна, вам пришлось бы преодолеть две с половиной тысячи километров по сказочным чащобам с единичными поселениями варваров и уймой дикого зверья.
Читать дальше
![Гай Аноним Вокруг Апокалипсиса. Миф и антимиф Средних веков [оптимизированный вариант] обложка книги](/books/393064/gaj-anonim-vokrug-apokalipsisa-mif-i-antimif-sred-cover.webp)