Переговоры, длившиеся с 6 по 8 февраля, получились странными. С одной стороны, обе стороны сознательно тянули время. Русским надо было установить на позициях тяжелую артиллерию, а воевода Довойна рассчитывал на прибытие Радзивилла. С другой стороны, успех на переговорах был все же возможен: в Полоцке имелась довольно влиятельная прослойка православного населения, готового на компромисс с московским царем. Для Ивана IV было бы даже значимей, если бы Полоцк склонил свою голову без боя: это означало бы, что деморализованное население Великого княжества Литовского готово признать власть православного государя.
В итоге переговоры закончились неудачей. Довойна так и не смог решиться на принятие русских условий, а московские воеводы за время переговоров успели подвести туры под самые городские стены и изготовить к стрельбе тяжелые орудия. 8 февраля царь запросил, есть ли челобитье о сдаче. Василий Трибун сообщил, что горожане колеблются, одни согласны на сдачу, другие нет. Тогда по приказу государя заговорила артиллерия. Как писали современники, начался такой пушечный гром, что, «казалось, небо и вся земля обрушились» на Полоцк. Крупнокалиберные ядра буквально взламывали стены, разрушали строения в городе. Полочан подвело то, что укрепления вдоль Двины либо вообще отсутствовали, либо были незначительными. Русские пушкари через реку били по незащищенному посаду и крепостной стене с въездными воротами. Получалось, что пушки стреляют в стену не снаружи, а как бы изнутри.
На посаде вспыхнул страшный пожар, уничтоживший, если верить данным летописи, 3000 дворов (цифра преувеличена, по Полоцкой ревизии 1552 г. на Великом посаде был 771 мещанский дом) [213] Там же. С. 356.
. По разным данным, возгорание случилось от огня русской артиллерии или от поджогов, сделанных по приказу воеводы Довойны («того же дни полочане с приходу от царя и великого князя острог зажгли») [214] Книга Полоцкого похода… С. 63. Поджоги пригородов осуществлялись самими полочанами и до прихода русских войск. Летописец указывает, что в Борисоглебском монастыре, где был царский стан, «кельи же того монастыря полоцкие люди до государского приходу пожгли, а осталася едина монастырская братъская пеколна» (ПСРЛ. Т. 13. С. 353).
.
В принципе, сжигание посада — обычный средневековый прием для древнерусских городов. Тем самым противник лишался возможности располагать войска на улицах посада, укрывая их между домами, и использовать разобранные постройки как строительный материал для осадных орудий. Воевать на пепелище трудно. Осаждающие — как на ладони. Но если Довойна в самом деле решился на такой шаг, то его иначе чем безумным не назовешь. А. Н. Янушкевич справедливо называет это решение роковым [215] Янушкевич А. Н . Ливонская война 1558–1570 гг…. С. 69.
. Это значит, что он собирался оборонять только замок — но разве можно было надеяться, что маленький полоцкий замок выдержит осаду столь большого войска? Шанс был, только если измотать врага в штурмах посада и в уличных боях выбить значительное количество живой силы. Но Полоцкий замок был бы просто захлестнут массой нападавших. На что рассчитывал Довойна, непонятно. Если решение зажечь посад — его решение, то можно говорить, что полоцкий воевода совершенно неадекватно воспринимал обстановку и не имел понятия о масштабах нашествия.
Одновременно с пожаром 9 февраля русские дворяне под командованием Д. Ф. Овчины и Д. И. Хворостинина вступили на пожарище в бой с польскими войсками, сделавшими вылазку из замка. Сражение закончилось отступлением полочан в замок. А. Н. Янушкевич указывает на неясность ситуации с местным населением. По разным данным, то ли оно частично само решило бежать к русским, видя, что обороняющиеся сами зажгли свой посад, то ли Довойна приказал их выгнать из замка (куда такая масса беженцев просто не влезла бы, а если бы влезла — тут же съела бы все запасы). С посада к царским полкам вышло 11 600 человек «черных людей мужиков и жен их и детей». Это было население Полоцкого повета, укрывшееся под защиту городских стен, а теперь, по словам А. Н. Янушкевича, «добровольно-принудительно» сдававшееся в плен [216] Там же. С. 69–70.
. Пленных царь приказал раздать своим воинам в качестве трофеев [217] Книга Полоцкого похода… С. 64.
.
С 9 по 11 февраля тяжелая артиллерия и туры под командованием Ю. Репнина переносились «на пожженое место», на пепелище полоцкого посада, к стенам замка. Напротив главных ворот были поставлены тяжелые орудия: «пушки болшие, Кашпирову да Степанову да Павлик да Орел да Медведь». Они кидали ядра до 20 пудов. Непрерывный огонь длился несколько суток. Его интенсивность достигала такой силы, что отдельные ядра пролетали территорию замка насквозь и ударялись в противоположную стену изнутри. Горожане прятались от огня в погребах, воевода Довойна с семьей укрылся под каменными сводами храма Св. Софии [218] ПСРЛ. Т. 13. С. 356.
. Гарнизон занимался не обороной, а тушением очагов пожаров. Но их было слишком много, и в конце концов полоцкий замок оказался объятым пламенем. Артиллерийским огнем было разрушено 40 укрепленных участков стены («городен») из 204, составлявших укрепления замка. Было очевидно, что его падение — только вопрос времени.
Читать дальше
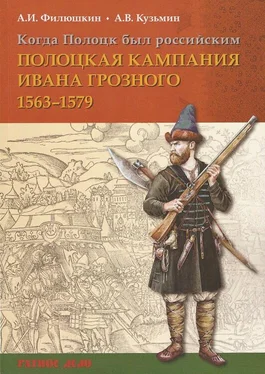

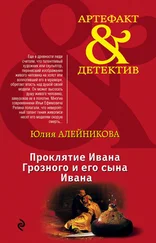
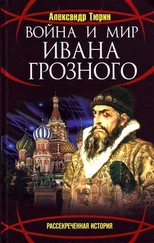


![Елена Арсеньева - Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного]](/books/311435/elena-arseneva-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-g-thumb.webp)
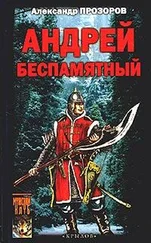
![Виталий Пенской - Полоцкая война [Очерки истории русско-литовского противостояния времен Ивана Грозного. 1562-1570] [litres]](/books/407508/vitalij-penskoj-polockaya-vojna-ocherki-istorii-russko-litovskogo-protivostoyaniya-vremen-ivana-groznogo-1562-1570-litres-thumb.webp)


