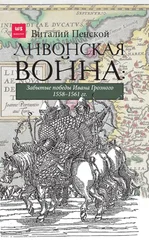Шлитте якобы доставил императору Карлу V Габсбургу послание, в котором московит изъявлял желание в обмен на признание его, московита, «Императором всея Руси» и разрешение навербовать в имперских владениях разного рода мастеров ссудить императору «чистыми деньгами на десять лет 74 бочки чистого золота за небольшой процент, а ежели будет предпринята упорная война против турок, то он (Иван IV. — В. П. ) готов выставить на свой счет на благо империи на пять лет 30 тысяч конных людей, с тем, однако, условием, чтобы при успехе войны ему возместили издержки…» (Донесение нюрнбергского купца Фейта Зенга Аугсбургскому рейхстагу о торговых операциях в Русском государстве и понесенных им издержках // Полосин И.И. Из истории блокады Русского государства // Материалы по истории СССР. Т. II. Документы по истории XV–XVII вв. М., 1955. С. 257–258). А.И. Филюшкин полагает Шлитте авантюристом, действовавшим на свой страх и риск, а пресловутое письмо Ивана IV Карлу V — фальшивкой, «немецким публицистическим памятником, составление которого связано с «промосковскими» идеологами Священной Римской империи» ( Филюшкин А.И. Закат северных крестоносцев. «Война коадъюторов» и борьба за Прибалтику в 1550-е годы. М., 2015. С. 42). Вполне возможно, что это послание действительно может быть памятником немецкой «промосковской» публицистики (поскольку наличие «антимосковской» «партии» в империи сложно отрицать), и в этом памфлете нашли свое отражение, пусть и несколько гипертрофированное, реальные предложения Москвы по заключению антиосманского союза. Но полагать, что Шлитте — авантюрист, на наш взгляд, все же слишком смелое допущение, ставящее под вопрос квалификацию имперских дипломатов и выставляющее явно в невыгодном свете и прусского герцога Альбрехта, и самого императора, не говоря уже о московских боярах и самом Иване IV, доверившихся безродному проходимцу.
Еще раз напомним, что первые симптомы экономического и хозяйственного неблагополучия обозначились на русском северо-западе еще в конце 40-х гг. XVI в. и получили свое развитие в начале 50-х гг. (см., например: Аграрная история Северо-Запада России XVI в. Новгородские пятины. Л., 1974. С. 294–295; Колычева Е.И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987. С. 172–173). Любопытно, но Ф. Бродель в своей классической работе «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.» писал, что «между 1540 и 1560 гг. (даты приблизительные) Европа была потрясена более или менее ясно выраженным кризисом, который делит XVI век надвое» ( Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. Время мира. М., 2007. С. 153). Значит ли это, что экономический кризис на северо-западе России, распространившийся позднее и на остальные регионы страны, был частью общеевропейского экономического кризиса?
Добавим к этому, что пока эта книга писалась и готовилась к изданию, в серии «Ратное дело», издаваемой фондом «Русские витязи», вышло небольшое исследование А.И. Филюшкина, посвященное предыстории Ливонской войны ( Филюшкин А.И. Закат северных крестоносцев: «Война коадъюторов» и борьба за Прибалтику в 1550-е годы. М., 2015).
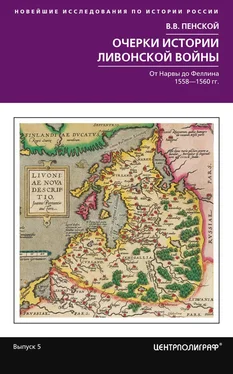


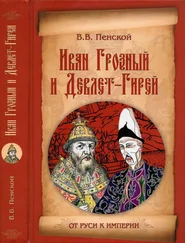
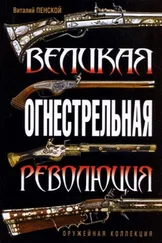

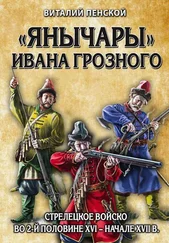
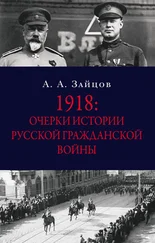
![Виталий Пенской - Полоцкая война [Очерки истории русско-литовского противостояния времен Ивана Грозного. 1562-1570] [litres]](/books/407508/vitalij-penskoj-polockaya-vojna-ocherki-istorii-russko-litovskogo-protivostoyaniya-vremen-ivana-groznogo-1562-1570-litres-thumb.webp)