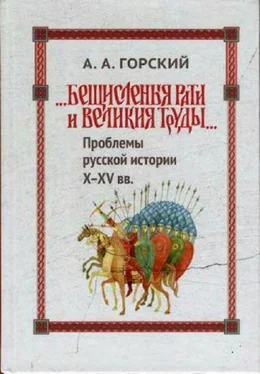См.: Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М., 2001. С. 611–615.
Ср.: РГАДА. Ф. 127. Оп. 2. Д. 14. Л. 1 (Посольская книга) и РГАДА. Ф. 181, № 591. Л. 782 об. — 783; ГИМ. Собр. Синодальное. № 272. Л. 402–402 об.; РГБ. Собр. Попова (ф. 236). № 59. Л. 131 об. — 132; ГИМ. Собр. Черткова. № 165. Л. 225.
В оглавлениях всех дошедших списков они объединены под одним пунктом (№ 76). Впрочем, в З такого, вероятно, еще не было, поскольку там нумерация более дробная: запись об измене казанских князей имеет отдельный номер, в то время как в П, М, С и Ч она объединена с двумя пред шествующими текстами — «речью» Михаила Гарабурды и «вольной грамотой некоему русину».
ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949. С. 328 («а самого царя Ахмута уби шуринъ его (Ибака. — А. Г .) ногаискыи мурза Ямгурчии»); ПСРЛ. Т. 37. М., 1982. С. 95 («А царь Ивак сам вскочи в белу вежу цареву Ахъматову и уби его своими руками»); Горский А. А. Москва и Орда. С. 177–178.
ПСРЛ. Т. 25. С. 302–304, 308–309, 326–328; Сборник РИО. Т. 41. СПб., 1884, № 1–7. С. 1–26.
См.: Приселков М. Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950. С. 351; ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Пг., 1922. Стб. 95.
На события 1480 г. указывают в тексте ярлыка слова: «А нынѣча есми от берега пошел, потому что у меня люди без одежь, а кони без попонъ». Аналогичную причину называет один из летописных рассказов о «стоянии на Угре»: «бяху бо татарове наги и босы, ободралися» (ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 231).
В. А. Кучкин в недавно вышедшей статье выдвинул утверждение, что под влиянием послания Ахмата в Сокращенных летописных сводах 1493 и 1495 гг. и в Софийской I летописи по списку И. Н. Перского появилось добавление, что хан имел намерение сделать, «яко же при Батыи было», и что речь шла о «восстановлении порядков» эпохи Батыя (Кучкин В. А. «Ахматово слово ко Ивану» (о Послании хана Большой Орды Ахмата Ивану III) // Российская история. 2018, № 1. С. 21, прим. 55). Автор не обратил внимания, что эти слова являются прямой цитатой из изложения намерений Мамая в Повести о Куликовской битве 1380 г., читающейся выше в тех же памятниках (ср.: ПСРЛ. Т. 27. М.; Л., 1962. С. 52, 282, 331, 355; Т. 39. Л., 1994. С. 119, 161); имеется в виду при этом не «восстановление порядков», а военное разорение Руси.
Тем, что ярлык писался в состоянии, что называется, «бессильной злобы», могут объясняться и его отступления от традиционного формуляра. Впрочем, Э. Кинан, хотя и посвятил обоснованию «нетипичности» ярлыка специальную статью, указал лишь одно конкретное несоответствие формуляру — цветистое invocatio (Keenan E. L. Op. cit. P. 40–42). Между тем, такого рода литературные изыски в сохранившихся большеордынских (не крымских) текстах встречаются (ср. в письме сына Ахмата Муртозы касимовскому хану Нурдовлату 1487 г.: «предние наши о кости о лодыжном мозгу юрта дѣля своего розбранилися… а опосле того опять то лихо отъ себя отложили, и кои потоки кровью текли, тѣ опять меж ихъ молоком протекли, а тот браннои огонь любовною водою угасили» (см.: Горский А. А. Москва и Орда. С. 200).
«Сказание о святой горе Афонской» косвенно также имеет к ней отношение, так как привезено оно было в Россию с территории, принадлежавшей Османской империи.
Послание, написанное после конфликта 1472 г., могло быть доставлено послом Кара-Кучюком, прибывшим в Москву в 1474 г., письмо 1476 г. — послом Бочюкой, посетившим Ивана III летом 1476 г. (см.: ПСРЛ. Т. 25. С. 302–303, 308–309).
В описи Царского архива, составленной в первой половине 1570-х гг., упоминаются «ордынские грамоты», адресатом которых был Иван III: «Ящик 50-й. А в нем списки и грамоты ординские старые к великому князю Ивану» (Опись Царского архива XVI в. и архива Посольского приказа 1614 г. М., 1960. С. 24). Очевидно, здесь и хранились послания Ахмата.
После военной кампании 1480 г., когда войска два месяца стояли друг против друга, писать, что положительным для Орды результатом похода стала рекогносцировка, было бы абсурдно. Иное дело — поход 1472 г.: тогда Ахмат пребывал у Оки всего 3 дня (см.: Горский А. А. Москва и Орда. С. 156–157), и вполне логично было подчеркнуть, что скоротечность подступа к русским пределам не помешала приметить пути и броды, и значит новый удар будет более подготовленным.
О действиях касимовского царевича Данияра в 1480 г. ничего не известно. Зато в 1472 г. одной из причин отступления Ахмата считался страх, что служилые царевичи великого князя Данияр и Муртоза «возьмут Орду» (оставленную без прикрытия ханскую степную ставку) (ПСРЛ. Т. 23. СПб., 1910. С. 161; ПСРЛ. Т. 27. М.; Л., 1962. С. 279). Под «оттоле» имеется в виду Касимов, стоящий на Оке, что косвенно указывает, что предшествующие посланию военные действия происходили на этой реке (как было в 1472 г., а не в 1480 г.).
Читать дальше