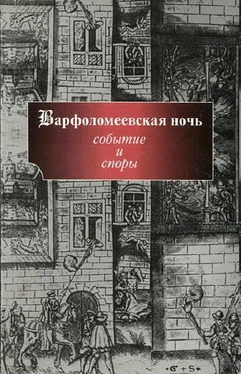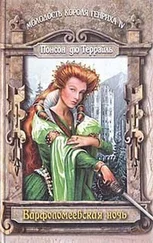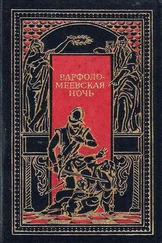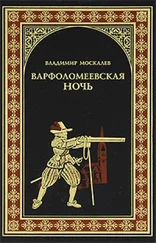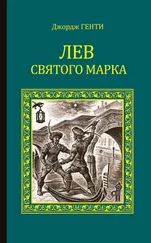Реликвии придавали трансцендентное измерение общинному воображению парижан. Аналогия между поклонением реликвиям и культу святой гостии вытекала из самой природы корпоративного католицизма. Секретарь Ратуши делает поэтому весьма характерную оговорку, описывая генеральную торжественную процессию, организованную королем, "в которой несли прекрасные реликварии — в особенности святое причастие с алтаря, святой терновый венец и крест победы" [277]. Обычно реликвия воспринималась как дополнение к Corpus Christi или как его субститут. Главной задачей была наглядная демонстрация вечного соучастия общины в таинстве божественной жертвы. Распространенные в ту пору верования не делали различия между таинствами (установленными Христом и дающими благодать) и сакраменталиями (установленными церковью и дающими лишь духовный эффект) [278]. Столь характерная для Парижа "процессия-месса" осмыслялась как своего рода причастие святыми (т. е. как трансцендентная связь, объединяющая как живых, так и мертвых членов "общины верных" в единое мистическое тело, глава которой — Христос) и вселяла уверенность в божественном вмешательстве. На исходе средневековья этот общинный аспект мессы обрел столь яркий коллективный смысл, что позволял, в частности, использовать литургию для демонстрации отношения к "врагам". В Париже во время процессии по случаю сожжения "врагов католической веры" ( catolice fidei inimicis ) в 1549 г. купеческий прево разъяснял королю, что парижанин не может быть еретиком: "…все плохие христиане, возмутители церковного согласия, могут встречаться среди толп народа, во множестве нахлынувшего на Париж отовсюду, но никак не среди жителей этого вашего доброго города, каковой по благодати и доброте Божьей, с вашей, Сир, помощью и благодаря заслугам ваших предшественников до сего дня охраняем от соблазна лживых доктрин…" [279]
Корпоративный католицизм, по всей видимости, был связан концепциями посредничества-предстояния, столь характерными для "Осени Средневековья". Нарастание покаянной тоски вело к умножению числа святых заступников и стремлению быть как можно ближе к ним. В стремлении мирян заменить монахов в организации ритуалов заступничества заключался источник обмирщения культов. Так, в 1525 г. была создана "компания носильщиков раки св. Женевьевы" из числа буржуа, сменивших в данной миссии монахов этого аббатства.
Подобно тому, как близость к святой гостии понималась в качестве залога эффективности коллективного моления, физический контакт с мощами воспринимался как условие действенности индивидуальных молитв. Когда Гент решили наказать за мятеж 1467 г., то почитатели одного из патронов города, св. Льевина, были лишены права нести реликварий с его мощами и должны были во время процессий помещать его на возок [280]. По окончании процессий св. Женевьевы народ (особенно больные) проходил под ракой и в ожидании чуда целовал ее или прикасался к ней своими четками. Во время похорон уже упоминавшегося фанатичного проповедника Франсуа Лепикара "бедняки и простецы, принимая во внимание святость его учения и жизни, прикладывали к его рукам свои молитвенники и четки" [281].
От имени всей городской общины выступал по преимуществу Муниципалитет как церемониальный корпус, ответственный перед реликвиями. Купеческий прево и эшевены сопровождали во время процессий как реликвии св. Женевьевы, так и королевские реликвии из Сен-Шапель. Привилегированное место Муниципалитета, этого "тела города", в ритуальной системе дополнительно подчеркивалось во время процессий при помощи свечей. Большие и малые свечи, которые несли участники шествия или молебна, были снабжены гербами города. Одно и то же пламя служило почитанию Бога и было символом привилегированной общины, заботящейся о публичном культе. Гербы украшали все свечи, поставляемые муниципальным бакалейщиком; очень многие шествия мирян приобретали, таким образом, муниципальную тональность. Мощи в реликвариях тонкой ювелирной работы, напоминающих еще и о благочестивых связях гражданской и религиозной общин с богатыми донаторами, участвовали в феерии, в которой город, украшенный коврами и гобеленами и оживляемый пышными кортежами, был воодушевлен обещанием загробного мира [282].
Парижане и их святые были тесно связаны, но эта связь осуществлялась по-разному в зависимости от того, шла ли речь о "святых автохтонах" или о королевских "реликвиях страстей". Одна система была общей для любого средневекового европейского города, другая была связана с особым положением Парижа как столицы Франции. Они вполне мирно сосуществовали в силу присущего религии той эпохи "полицентризма", более того — согласование обеих систем само по себе являлось инструментом политической интеграции, однако это равновесие нарушилось в XVII столетии. Конечно, у корпоративного католицизма враги были и раньше (например, некоторые из нищенствующих орденов, проповедовавших крайние формы презрения к миру), но первый серьезный удар по нему был нанесен Генрихом III. Различными своими деяниями — от учреждения братства Кающихся в Париже до приказа убить герцога Гиза и кардинала Лотарингского, а затем сжечь их тела — этот король спровоцировал беспрецедентный разрыв между сакральными королевскими ритуалами и сакральными ритуалами городской общины [283].
Читать дальше